
Общественные установки, формируемые сверху, не должны загораживать историю явлений, интерес к которой должен возникать хотя бы из-за того, что прежде мыслили иначе — и отголоски этих мыслей неотступно следуют за цивилизацией. КРОТ настоятельно рекомендует своим читателям не совершать самоубийств — и не забывать о смерти. Знаток древнегреческих практик Стас Наранович, схватив обоюдоострый меч логики и щит антиковедения, бросается навстречу страхам, предрассудкам и статусу-кво.
Отечественное чиновничество, от Роспотребнадзора и Роскомнадзора до парламентариев, РПЦ и Минздрава, боится контролируемой смерти. РКН пытается повесить коллективную танатофобию на самих граждан, которые якобы все чаще и чаще жалуются по горячей линии на досаждающие им в Сети «описания способов самоубийства и призывы к самоубийству». Только глава патриаршей комиссии по делам семьи набрался смелости честно посоветовать атеистам покончить с собой, «потому что нет абсолютно никакого смысла "жить, учиться и бороться", если после твоей смерти на могиле только лопух вырастет. Логичнее будет сразу лечь в гроб».
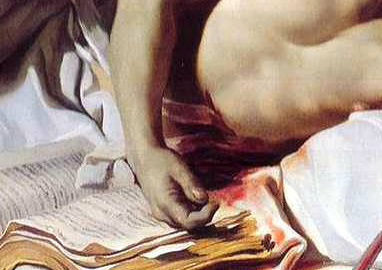





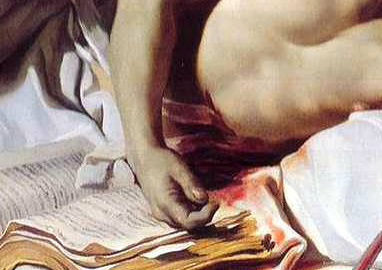
Погоня за «группами смерти» и простыми упоминаниями суицида в журналистских публикациях, очевидно, не способствует снижению аномии в российском обществе и служит симптомом болезненного отношения к смерти в целом и управляемой смерти в частности. Сексуальные девиации и наркомания на волне либерализации перестали быть табу (по крайней мере, в первом мире) — относительно же самоумерщвления если и есть подвижки, то нет конвенции. Даже если кончают с собой великие, будь то Марк Линкус или Дэвид Фостер Уоллес, это оценивают не как самоценный эпизод жизни, а как ошибку, списываемую на передоз или психические расстройства, — мол, оступился.
Но самоубийство как грех, самоубийство как аномия — не предпосланные раз и навсегда аксиомы или законы природы. В отличие от нас греко-римская цивилизация, на фундаменте которой до сих пор держится западное общество, умела воздавать должное смерти. Как пишет Плиний Старший, «что же до несовершенств человеческой природы, в них есть чем утешиться и даже очень. Ибо и Бог ведь не все может: не может, например, совершить самоубийство, если бы и захотел — а человеку он даровал этот лучший дар среди стольких жизненных бед».
В классическом «Словаре античности» можно прочесть, что в классическую и эллинистическую эпоху самоубийство строго осуждалось и оправдывалось, только если «причиной были несмываемый позор, личное несчастье, неизлечимая болезнь». И все же дошедшие до нас источники свидетельствуют скорее в пользу того, что языческая античность разделяла благодушное отношение древнеримского историка к смерти.

Историк Антон ван Хооф в работе «От аутотаназии к суициду: самоубийство в классической античности» рассматривает отношение древних к самоубийству в трех социальных плоскостях: oikos, polis и cosmos (дом, сообщество и мироустройство соответственно). В первом случае речь идет о личных причинах ухода, среди которых одна из центральных — телесные муки; именно из-за них покончил с собой Гераклит. Его фантасмагорический суицид великолепно пересказывает филолог-классик Андрей Лебедев: «Рассорившись со своими согражданами и прокляв их, Гераклит желает им всем повеситься. Эфесцы оставили город малолеткам, изгнав доблестного Гермодора — товарища Гераклита и лидера местной партии. Гераклит удаляется в горы, становится там вегетарианцем и в результате заболевает водянкой. Заболев водянкой, он спускается обратно в город и обращается к официальной медицине, загадочно спрашивая врачей, могут ли они "потоп превратить в засуху". Врачи ничего не понимают — обругав их, Гераклит лечится сам. Он идет в конюшню и закапывается в навоз, желая, чтобы солнечный жар испарил из него патологическую влагу. Так он и лежит, но ничего не добивается и умирает. Зря закопался в навоз. Приходят собаки, которые не узнают и съедают труп Гераклита».
Вслед за Гераклитом последовал основатель стоицизма, одной из главных античных школ, Зенон Китийский (к слову, высоко ценивший философию Гераклита):
Так говорят: китиец Зенон, утомленный годами,
Мукам конец положил, отринув пищу.
Со своим схолархом солидаризовались и последующие стоики — как пишет Диоген Лаэртский, «уйти из жизни, по их словам, для мудреца вполне разумно и за отечество, и за друга, и от слишком тяжкой боли, или увечья, или неизлечимой болезни». Но телесные страдания должны быть существенными, чтобы стать поводом для самоубийства. Римский стоик Сенека, описывая тяжелые старческие недуги своего товарища, эпикурейца Ауфидия Басса, который, тем не менее, «бодр духом», замечает: «как кораблю, который дал течь, не опасны одна-две трещины, но когда он расшатается и разойдется во многих местах, то рассевшегося днища уже не поправить, — так и старческую немощь до поры можно терпеть и даже найти ей подпоры, но когда, словно в трухлявой постройке, все швы расползаются и, пока чинишь одно, другое разваливается, тут уж надо думать о том, как бы уйти».

Сам Сенека покончил с собой по приказу своего воспитанника императора Нерона, заподозрившего философа в участии в заговоре против него. Суицид одного из величайших стоиков описывает Тацит: огласив завещание, он вместе с супругой, не пожелавшей оставить мужа, «одновременно вскрыли себе вены на обеих руках. Но так как из старческого и ослабленного скудным питанием тела Сенеки кровь еле текла, он надрезал себе также жилы на голенях и под коленями; изнуренный жестокой болью, чтобы своими страданиями не сломить духа жены и, наблюдая ее мучения, самому не утратить стойкости, он советует ей удалиться в другой покой».
Кровопускание не достигает своей цели, поэтому Сенека просит друга принести «заранее припасенный яд, которым умерщвляются осужденные уголовным судом афинян; он был принесен, и Сенека его принял, но тщетно, так как члены его уже похолодели и тело стало невосприимчивым к действию яда. Тогда Сенеку погрузили в бассейн с теплой водой, и он обрызгал ею стоявших вблизи рабов со словами, что совершает этой влагою возлияние Юпитеру Освободителю. Потом его переносят в жаркую баню, и там он испустил дух, после чего его тело сжигают без торжественных погребальных обрядов».
Из приведенной реплики Диогена Лаэртского уже понятно, что стоики поощряли самоубийство в интересах polis. Некоторые из них эскалировали этот тезис до предела: так, стоик Ямбулос рисует утопический Гелиополис, где каждый, ставший калекой или страдающий серьезным недугом, обязан в соответствии с неумолимым законом уйти из жизни. Возможно, это радикализация стоического идеального государства, населенного одними мудрецами (соответственно, уходящими, когда рассевшегося днища уже не поправить), — в противовес государству Платона, в котором мудры лишь правители.

Как резюмирует Хооф, «разные философские школы предлагали соответствующие легитимации для ухода из жизни по частным причинам, однако всегда оставался риск потерять свое достоинство». Именно к этому апеллирует Аристотель, считавший, что тот, кто накладывает на себя руки, нарушает закон полиса, поскольку «закон не приказывает убивать самого себя, а что он не приказывает, то воспрещает», поэтому «государство даже налагает взыскание на самоубийцу и своего рода бесчестие преследует его как человека, который неправосудно поступил по отношению к государству».
Самоубийство под эгидой космоса возвращает к реплике Плиния Старшего. Космические, божественные силы не просто дозволяют суицид; человек способен убить себя — и это единственное, в чем он могущественнее бога, обреченного влачить существование вечно. Космос дозволяет суицид в той степени, в какой душа не играет в нем определяющей, кардинальной роли, пишет ван Хооф: «в искусстве bene mori, которое проповедуют стоики, идея души не играет главной роли в формулировании отношения к самоубийству. Душа рассматривается как элемент в каждом индивиде, причастный великому logos. Некоторые стоики считают, что душа безвозвратно исчезает, когда тело умирает, другие, что попадает в космический круговорот, в котором индивидуальность растворяется. Оба мнения не имеют никакого определенного отношения к стоической доктрине самоубийства. Эпикурейская душа состоит из крошечных атомов, распределенных по всем частям тела. Когда тело уничтожается, атомы души теряют свою функцию и рассеиваются. Для души нет жизни отдельно от тела. Когда эпикуреизм и стоицизм иногда предостерегают от самоубийства, душа не оказывается аргументом».
Именно в рамках гармонии между космосом, душой и смертью умер Зенон (по второй версии): «Уходя с занятий, он споткнулся и сломал себе палец; тут же, постучав рукой оземь, он сказал строчку из "Ниобы": Иду, иду я: зачем зовешь? и умер на месте, задержав дыхание». Сломанный палец — это намек свыше, что Зенон тут подзадержался. С ним солидарен и живший спустя четыреста лет Эпиктет: «Если ты, (боже), послал меня туда, где жить в согласии с природой человеку невозможно, я покину эту жизнь, не из непокорности, а потому что ты сам подал мне сигнал к отступлению». (Справедливости ради следует признать, что Платон и его последователи занимали противоположную позицию: нельзя уходить оттуда, куда тебя послали боги).

Античность знала и еще один вид суицида — суицид как жест, как элемент дискурса; такова была смерть киника Перегрина Протея, которого римский историк Авл Геллий называет «человеком серьезным и положительным», говорившим «много полезного и достойного». Он решился на публичное самосожжение (возможно, эту практику эллины и римляне переняли у индийских аскетов), чтобы «принести пользу людям, показав им пример того, как надо презирать смерть». Его смерть описана Лукианом: «Когда взошла луна, — и она должна была созерцать эта прекрасное зрелище, — выступил Перегрин, одетый в обыкновенную одежду; вместе с ним были главари киников, и на первом месте этот почтеннейший киник из Патр с факелом — вполне подходящий второй актер. Нес факел также Протей. Киники подходили с разных сторон, и каждый поджигал костер. Сразу же вспыхнул сильный огонь, так как было много факелов и хвороста. Перегрин же, — теперь отнесись с полным вниманием к моим словам, — снял суму и рубище, положил свою гераклову палицу и остался в очень грязном белье. Затем он попросил ладану, чтобы бросить в огонь. Когда кто-то подал просимое, Протей бросил ладан в костер и сказал, повернувшись на юг (юг также входил составной частью в его трагедию): "Духи матери и отца, примите меня милостиво!" С этими словами он прыгнул в огонь. Видеть его, конечно, нельзя было, так как поднявшееся большое пламя его охватило».
Благодаря древним мы помним, что грех, аномия, депрессия, аффект не являются монополистами самоубийства; суицид должен быть изъят из ведомства этих традиций, очерняющих смерть. Смерть следует оценивать как резюмирующий эпизод жизни, бантик на ней, а не как исключение из нее и горькое недоразумение. Потенциальная возможность свободной смерти обеспечивает абсолютную власть над жизнью. Как писал главный ученик Пиррона из Решинари, «быть в состоянии распорядиться собой и отказываться от этого — есть ли на свете что-либо более непостижимое? Утешение с помощью возможного самоубийства раздвигает до бесконечного пространства стены этого жилища, где мы задыхаемся».
