
Сожжение — древнейшая практика утилизации кадавров — сегодня оказалось во главе прогресса, безжалостно испепеляющего бандитский (или подментованный? хотя какая разница) кладбищенский бизнес и старые представления о посмертной судьбе тела. Директор частного новосибирского крематория Сергей Якушин поделился с Артемом Макарским своими соображениями о будущем индустрии, смерти религии, сжигании раковых опухолей и протезов, похоронах наркоманов и спасении через нанопакет.
— Как давно вы занимаетесь похоронным делом?
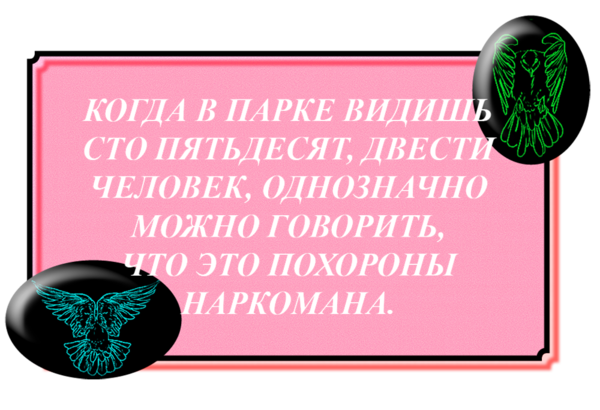




— Я придумал первую похоронную выставку еще в 1992 году. Я тогда по сто выставок в год делал. Мы союз образовали — придумывали темы для промышленных выставок. В каждом регионе свое: в Новокузнецке шахтерскую, на Алтае сельскохозяйственную, Уровень похорон и погребальной культуры был очень низкий тогда, вот мне и захотелось его поднять. Коллеги крутили у виска и говорили, что я сумасшедший: «где Якушин увидел рынок». И они были правы — я девять лет проводил в Москве похоронную выставку с одними только убытками. Но поскольку выставок было много, то за счет прибыли от других мы ее держали. И на десятый год производитель кремационной техники, Зденек Лехнер из Чехии, подошел ко мне и сказал: «Сергей, я тебе хочу дать крематорий. Потом когда-нибудь отплатишь». Мы с ним ездили по многим городам, я его представлял мэрам — и все крематорий построить хотели, но ни у кого не было денег. И он захотел создать такую базу, плацдарм, куда люди могли бы приезжать и смотреть, что такое кремационная техника. Он надеялся, что и дальше будет крематории продавать городам по всей стране. Собственно, так и вышло. Сейчас крематории есть уже двадцати с лишним городах — и строят еще в пятнадцати.
Кремация — это, безусловно, главная похоронная услуга XXI века. Больше половины всех людей на Земле выбирают кремацию. И не только потому что это дешевле. Кремация перешла в разряд мировозренческого выбора. Не только буддисты считают, что кремация это мгновенное очищение души — в христианском мире тоже есть сторонники кремации. У нас в Новосибирском крематории [сожжено] двадцать священников. Позиция РПЦ простая. Когда мы начали строить крематорий, наш владыка Тихон отправил запрос патриарху Алексию Второму и тот прислал письмо практически незамедлительно. Он написал: «кремация — нетрадиционный вид погребения, но мы должны быть там, где нас просят быть люди». о есть, смысл ответа был в том, что мы же не можем отправить его на тот свет без отпевания даже если он был кремирован — церковь не занимается телом, она занимается душой. А телом родственники вправе распорядиться по своему усмотрению. Кстати, эти же слова говорит и патриарх Кирилл. Закон 1996 года предусматривает две нормы погребения — гробом в землю или предание тела огню. Еще есть погребение в воде, но это при особых обстоятельствах бывает.
— Как законы успевают за изменением технологий в мире погребальной культуры?
— Технологии играют не такую важную роль как изменение воззрений. Дело в том, что удельный вес верующих у нас в России не столь велик как принято считать. Мы проводили свои соцопросы и обнаружили, что верующих — двадцать процентов от населения и из этих двадцати процентов — восемьдесят процентов православных. И когда я эту статистику принес нашему владыке Тихону, он говорит: «да, мы это знаем, но истинно верующих же еще меньше». Эти двадцать процентов это религиозные люди — те, кто ходит в церковь, молится, ставит свечку. Но они не верующие. А другой вопрос, который ВЦИОМ проводил в Москве, он утверждает, что удельный вес истинно верующих сейчас — 4-7%. Люди уходят из лона христианства и представления о загробном мире меняются… К слову, очень повысился удельный вес мусульман. Когда мы проводили опрос, мусульман было чуть меньше трех процентов — это было десять лет назад — а сегодня их уже семь процентов. И хотя нас эта волна мусульманизации не так коснулась в России, как в Европе. Не знаю, плохо это или хорошо, но это факт. Общество расслаивается в религиозном плане.
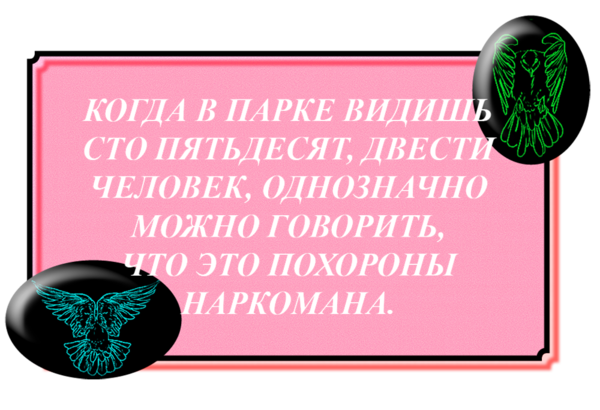
— Вы утверждаете, что кремация — наиболее перспективный метод?
— Это не перспектива, это абсолютная закономерность. Протестанты приняли кремацию в 1923 году, в 1967 — католики. Сегодня католические храмы собирают деньги на строительство крематориев — и в Италии на средства церкви таких уже построено два. В Америке вообще катастрофа в похоронной отрасли среди производителей — сейчас там доля кремации составляет около сорока пяти процентов, невиданная цифра. Производители шикарных гробов, таким образом, на грани разорения. При кремации, как вы понимаете, гроб дорогой не нужен. Кроме того, это еще и колоссальная экономия земли.
Для России это, фактически, единственный выход, особенно в мегаполисах. Есть опыт, например, Новокузнецка. Кладбищ там немного и они давно исчерпали свой ресурс — ближайшее в итоге оказалось за пятьдесят километров от города. Никто не станет ездить, конечно. В итоге крематорий там приняли с распростертыми руками. Кремация это еще и решение экологических проблем — кладбища душат города. Более того, они часто занимают территории в центре города и обычно после их закрытия на их месте появляются парки. Вот в Новосибирске: березовая роща, центральный парк, парк на том берегу — все они были кладбищами. Сейчас там и колесо обозрения, и развлечения, и танцы, и прочая-прочая. Такова жизнь.
Сегодня эзотерики, экстрасенсы, тибетские учителя, говорят: нельзя хоронить в землю ВИЧ-инфицированных, онкологических больных, тех, причина болезни которых еще не изучена и не распознана. И так уже оболочка Земли загрязнена чрезвычайно — чтобы не усиливать негативный эффект, такие тела нужно кремировать. Но вот мы из своей практики знаем, что раковая опухоль не горит. Она сияет синим пламенем и «бегает» по печи. Такая кремация длится дольше на 40-45 минут. После этого опухоль — раз! — и гаснет. Все кто умудрился в последнее время в России построили крематорий, наблюдают одну и ту же тенденцию — статистика начинает активно расти вверх. У Москвы сегодня 55%, у Петербурга — 65-70%, в Новокузнецке бывают месяцы, когда 80% занимает кремация.
В случае с урнами людям гораздо проще создать семейные склепы. Это очень важно. Ставится стелла с именами родственников, урн можно похоронить шесть-семь-десять... Для родителей очень важно привести своих детей и показать им: вот твоя бабушка, вот прапрадед. Раньше это практически невозможно было сделать — всех хоронили на разных кладбищах, а в СССР вообще по прописке. У некоторых семей есть пять-шесть кладбищ и они в родительскую субботу не знают, куда ехать. Сейчас у нас набирает популярность услуга — заказывают эксгумацию, привозят сюда, бывает, по три гроба сразу, мы их кремируем, и потом урны отправляются в семейный склеп.
— Давно ли появилась такая услуга кремирования задним числом?
— Сразу как мы открылись.
— Криогенная заморозка пока остается маргинальной практикой?
— Сейчас в криоцентре уже около тридцати животных заморожено, кошек и собак. Вчера мы разместили новость на нашем портале — заморозили мозг женщины. Она при жизни еще захотела, чтобы с ней так поступили. А у нее сын, по-моему, в Америке живет — и он довольно поздно приехал, когда само тело замораживать было уже нельзя. И заморозили только мозг, при этом сделали это на квартире в Питере. Вот сейчас они его переправят в криоцентр в Москву. Это в любом случае не станет чем-то повальным. Это все равно ненормальность — в том смысле, что… Знаете, в английском языке есть очень красивое слово, abnormality. Оно не имеет резко негативного смысла, это просто то, что не укладывается в некий фарватер, в границы чего-то признанного. Но это еще и нечто пограничное, или находящееся за пределами, словом то, что не свойственно всем. Таких случаев пока 2-3%. Не думаю, что крионика будет повальной, потому что объективно в ней не будет нужды. Ведь известно, что робототехника уже так далеко шагнула, что уже и органы печатают.

Фактически, можно говорить, что в ближайшие 20-30 лет человек сможет любой орган заменить в любой момент. Есть много сценариев футуристических и по этим сценариям все сходятся в одном — не будет традиционного зачатия. Семья, пара, будет приходить в какую-то лабораторию, сервис-центр, и будет заказывать себе ребенка. Если они захотят, чтобы ребенок был певцом, они с такими признаками создадут плод. Если захотят отправить его в космос — его кожа не будет воспринимать радиацию, и так далее. Это все возможно уже сейчас, но в меньших масштабах. Поэтому люди будут, безусловно, киборгами. Уже сейчас ведется дискуссия о том, что надо всем при рождении вшивать чипы. Если мы дальше будем фантазировать, то вот родился маленький ребенок с чипом, который отслеживает не просто его жизненную ситуацию, а просто каждую минуту и секунду. Не нужна будет летопись, что вообще делал человек и как он жил. И соответственно, можно будет фантазийно предположить, что если человек умрет, то этот чип можно будет найти по сигналу и использовать: весь его некролог оттуда вытащить.
В любом случае традиционным это погребение уже не будет. В нем просто не будет необходимости. Скорее всего, Чубайс придумает какой-нибудь нанопакет, в который погрузят человека, и его биологическая масса будет уничтожена, а все остальное будет сохранено. Это очень смелые по сегодняшнему дню сценарии, но они однозначно произойдут. И люди уже в ближайшее десятилетие будут уже частично роботами. Лично я смотрю на это спокойно — историю вспять не повернешь. Я смотрю совершенно пессимистично на профессию, которая мне — уже на пенсии — досталась. Ее не будет просто. Не будет нужды в похоронщиках, функция сохранения памяти отпадет. Память — она в чипе, она уже в компьютере; в любой момент нажми на кнопку и ты увидишь — [человек] и улыбается, и поет, и рассуждает, и пишет книги, и делает открытия. Каждую секунду жизни можно отследить. Та мемориализация, которую мы сегодня делаем — памятники, памятные события и прочее, — в этом просто не будет необходимости. Скорее всего, это просто будут какие-то огромные многоэтажные мемориальные комплексы, с экранами, с голограммами... Люди там будут собираться, но это уже не будут скорбные моменты в нашем понимании.
Сама функция погребения исчезнет. В каких-то там сценариях говорится, что [тела] будут отправлять туда, в космос, но это уже устаревший сценарий, это было актуально, может быть, лет двадцать назад. Это советские сценарии. Они были, конечно, смелыми, но это очень дорого. Мои прогнозы ближе к нанопакетам каким-то все-таки. Кремация отпадет — это ведь тоже деньги, газ. Будет все более экологически чистым и менее энергоемким. Единственное, что останется от похоронной профессии, это эвакуация. И все, собственно говоря. Вам показывали у нас протезы?
— Нет, но рассказывали, что протезы не сгорают.
— Да, они не сгорают. И в Европе, и в Америке их собирают — это очень ценный и дорогой инертный материал. Есть ассоциация, которая объезжает все крематории Европы, собирают протезы, сдают на переработку и полученные деньги тратят на благотворительность. Получаются огромные суммы. Ну, кардиостимуляторы тоже удаляются. Они на изотопах — нельзя, чтобы они взрывались в печи.
— Не думаете ли вы, что даже когда появится условный нанопакет, все равно тяга к традициям останется в виде какого-то видоизмененного ритуала?
— В каких-то случаях да, конечно. Говорят, что после пятидесятых-семидесятых годов двадцать первого века только 2% людей на планете будут стремиться зачать ребенка традиционным способом. Сама традиционная форма зачатия в ходе сексуального контакта будет деградировать и исчезать. Секс-то наверняка останется как времяпровождение, удовольствие, признак любви и симпатии, может быть, просто физической потребности, а вот к зачатию люди будут подходить более серьезно — оно будет происходить в лабораториях.
— Можно ли таким образом заключить, что вместе с падением потребности в зачатии другая сторона жизни в виде похорон тоже исчезнет?
— Я думаю, что это будет происходить одновременно, да. Это же, на самом деле, уже сегодняшний день. А что же будет дальше? Сейчас уже [есть] клапаны сердца, черепные коробки люди меняют. У нас завод в Новосибирске, он специализировался раньше на военном фарфоре, а сегодня — вот Путин приезжал, кредит им дали — делают протезы, которые дешевле зарубежных. Вы даже не представляете, какой это огромнейший завод. Вот они на всю страну и дальше, в Китай и другие страны, будут поставлять части тела.
— Как вы думаете, возможен такой вариант, что если найдется лечение от онкологических заболеваний, СПИДа и прочего…
— Конечно, будет.
— ... бессмертным человек может стать?
— Да. Безусловно. Я думаю, что двадцать первый век как раз будет ознаменован тем, что человек будет жить столько, сколько он захочет — потому что можно будет менять органы, включая мозг. И [человек] может на каком-то этапе, поменяв мозг, какую-то часть программы оставить, а может стать совершенно новым человеком. Другой вопрос возникает — философский — для чего долго жить? Вот мы когда хороним людей, которым 90, 95, 100 лет, с ними три человека прощаются. Всех пережил человек. Таким очень скучно жить. Они детей своих пережили, некому их хоронить. А для чего живут? Они страдают от этого. Вопрос о том, для чего жить, волнует очень большое количество людей. Я читаю лекции для стариков о том, как продлить жизнь.

У меня на следующей неделе открывается выставка — я проводил ее на ВДНХ и сейчас вот в Новосибирске, — она называется «Продлить жизнь». Когда мы с пожилыми людьми встречаемся вновь на следующей лекции, они говорят: мы очень признательны вам за то, что после лекции мы осознали, что мы уже не можем сидеть на диване и смотреть сериалы. Нам хочется двигаться, нам хочется что-то делать. Посадить клумбу цветов, съездить с внуками поиграть. У них изменяется целеполагание. Пусть и цели маленькие, но человек все равно в движении. Когда цели кончаются, человек уходит. У моей мамы так было. Она умерла в 93 года. В последний год мы стали замечать, что ей ничего не надо. Целеполагание оно вот так и растворяется, растворяется, растворяется. Незадолго до смерти мамы я сидел и смотрел на нее, и внутри у меня: мама, зачем ты живешь? Я не провоцировал эти мысли, они сами приходили. Именно в этот момент, я помню, звонок в дверь — и забегают мои внуки. Ее правнуки. Они бегом и прямо головой ей в подол. Тогда я понимаю: вот для чего она живет. У нее другой задачи и не было уже.
Вопрос «зачем долго жить?» в какой-то мере все равно предопределен, и если человек не отвечает себе на него, то он раньше и уходит. Есть независимые исследования в Америке, в Австралии, они отслеживают тысячи людей пожилого возраста. Они утверждают, что активное времяпровождение, общение с другими людьми — общение очень много значит, — и именно постоянное движение в сторону каких-то целей сохраняет жизнь. Просмотр новостей, чтение, речь. Это увеличивает продолжительность жизни на срок от 9 до 12 лет. Человек не должен быть в одиночестве — так он быстро угасает. Поэтому нужно разговаривать, мыслить, читать, слушать новости — не потому что новости заводят, а потому что человек заставляет себя мыслить.
— Вы сталкиваетесь сейчас по работе с новыми технологиями?
— Да, конечно. Мы проводим онлайн-трансляции. В первый раз мы ее провели, когда хоронили писателя из Польши.
— А в каком году это было?
— Года три назад. Он написал несколько книг о России, очень ее любил. Он ехал по Транссибирской магистрали на Байкал, писать очередную книгу. Умер недалеко от Новосибирска. Его сняли [с поезда], и мы его хоронили здесь. Родственники не могли приехать. Жена была больная. Тогда похоронная фирма из Польши попросила нас сделать фото для жены. Мы предложили снять на видео — а потом родилась идея, что, может быть, мы посадим ее в квартире около компьютера и дадим трансляцию. Ей очень это понравилось. Я не знаю, по какой причине, но информационное агентство об этом узнало. Не помню, как это получилось. Этот сюжет посмотрели на планете двадцать миллионов. Онлайн-трансляцию [похорон] польского писателя. Из Новосибирска. Мы позвали католического священника, позвали польских монашек, работающих у нас в детском приюте. Они шли за гробом и пели, около печи провели молебен. Было траурное шествие, все очень достойно и красиво. Нам польская фирма сказала, что им нужно учиться у нас, как хоронить. [смеется] А потом было ужас сколько благодарственных [писем]. Этот факт убедил нас не сомневаться в том, что в такой традиционной сфере как погребение нужно творить и внедрять новое. По-другому невозможно.
Молодые люди не хотят ездить на похороны, они хотят смотреть их онлайн. В перерыве на работе сидеть, пить кофе и смотреть [трансляцию], как хоронят соседку по даче. И написать соболезнование родственникам — все в интернете и в любой момент. Не посмотрели днем, так вечером посмотрят. Сегодня мышление у людей такое. Они привыкли к такому обмену информацией, к переживанию через интернет. Ведь очень мало людей ходят сегодня на похороны. Мы самое близкое кладбище к центру в Новосибирске, по дороге к нам нет пробок. Но если семь, восемь, пятнадцать человек собрались вокруг гроба — уже прекрасно.
Новые формы вне всякого сомнения будут развиваться — не только онлайн-трансляции. Сегодня мы делим прах — это уже норма. Бывает, и пятнадцать миниурн люди покупают и отправляют в разные города. Два раза в космос прах отправляли с мыса Канаверал в Америке. Бывает, просят развеять над Байкалом, Обью, в Сосновом Бору. Или вот история была — на снегу мальчик и девочка развеивали прах мамы, совсем еще маленькие, они не знали даже, что делать с прахом. У нас есть такой колокол, в него заряжается прах, нажимаешь — и прах высыпается. Они сказали, что хотят развеять прах в лесу на снегу. Мы думали, развеют сейчас прах и все, а они, дети, договорились между собой — это было шоком для нас, — мальчик написал «ма», передал девочке колокол, и она написала им «ма». Мама. Очень трогательно.
Похороны это, безусловно, многовековая традиция, но быть традиционалистом сегодня, живя в 21-ом веке, это уже бескультурье. Можно сколько угодно кичиться тем, что мы отстаиваем традиции и тем более возрождаем что-то старое, но это бремя — а нам надо удовлетворять потребности людей. Нужно быть их современником, и их стремления кардинальным образом меняются. Мы с трудом можем понять, о чем думает и мечтает молодежь, и какие у них жизненные приоритеты. Недавно проводился опрос по сибирскому региону, и выявили, что молодежь сегодня принципиально отличается в мыслительным процессах от людей пожилого и даже среднего возраста. У них ценности совершенно иные. Это не хорошо и не плохо, это просто другие люди. Как можно хоронить таких людей как раньше?
Мы хоронили девочку-наркоманку. У наркоманов есть какое-то сообщество — негласное, я полагаю. Когда в парке видишь сто пятьдесят, двести человек, однозначно можно говорить, что это похороны наркомана. И вот была такая история — была поздняя процессия, где-то в районе восьми вечера. Лето, светло еще. Они выпускали голубей. Всех голубей, которые у нас, они заказали — больше двадцати. Было трогательно безусловно. Она не наркоманка была, она просто от передозировки умерла. Случайность, на самом деле. Приехало очень много прекрасных людей. Образованных, студентов, с кем девочка училась. Все рыдали. Стали выпускать голубей. Один голубь отделился, развернулся, пролетел над всеми и улетел в сторону колумбария. Те полетели к себе домой в голубятню, а этот здесь [остался]. Он сел на колумбарий, потом в ячейку, нахохлился так и заснул. Кто-то его увидел и стал кричать. Они всей вот этой толпой ринулись к ячейке. Сказали: нам голубь показал, где нужно — и поменяли нишу. Безусловно, это элемент мистики, но он говорит о многом. Люди сиюминутно готовы менять что-то в ритуале прощания.
Сама мемориализация приобретает диковинные формы. Например, на стене висят часы. Обычные настенные часы, но за задней стенкой — урна. Картины, портреты посмертные пишут по фотографии — но в краску добавляют прах. Получается портрет, написанный прахом человека. Бриллианты из праха делают. Полкило праха нужно отдать, чтобы сделать бриллиант. Кто-то этому удивляется, кто-то это вообще критикует. Это смешно. Это простые потребности людей. У каждого своего отношение к усопшему. Человек не может просто так отпустить, он хочет держать в себе, носить что-то. Через пятьдесят лет то как мы сейчас хороним тоже будет выглядеть смешным.
Тут важен один момент — благодарная память. Когда мы встречаем людей на похоронах, у них острое горе. Они не слышат, они как больные. В этот момент они могут вести себя как угодно, они не отдают себе в этом отчета. Проходит месяц, два, три — три это уже предел, — они возвращаются в норму. Когда мы во время церемонии людям, которые рыдают, говорим речь и призываем их вспомнить самые замечательные и счастливые моменты, которые они прожили вместо с усопшим, и в этот момент церемониймейстер улыбается... Я наблюдал несколько раз: женщина у гроба стоит, мужу сорок лет. Молодые. У нее просто градом слезы текут. Когда он [церемониймейстер] говорит эти слова — «вспомните», — слезы перестают течь, и она растекается в улыбке. Это и есть момент благодарной памяти. Чем быстрее мы этот прыжок из острого горя в благодарную память сделаем, тем лучше нам и душе усопшего. Усопшим не нужно, говорят эзотерики, чтобы их держали, вспоминали, рыдали и прочее — это не приносит пользы душе, они не могут взлететь выше. Для живущего человека каждая смерть это испытание и закалка духа, мы становимся сильнее. Каждая смерть заставляет нас задуматься о своей конечности.

Только на фоне чужой смерти мы можем понять, что мы умрем. Сколько бы ни говорили здесь в музее, люди пока сами не испытают смерть близкого, они... смеются, фотографируются на фоне черепа. Пока они не отдают отчет, им еще неведома суть жизни. А те, кто уже бывал в этих ситуациях, уже по-другому посещают музей и по-другому рассматривают. Им уже показали смерть в лицо, и они извлекают пользу. Такие люди, которые вот эту суть каким-то потаенным способом постигают сами — они ведь приводят и своих детей, и своих внуков... У нас музей для всех возрастов. Есть исследования, что участие детей любого возраста в похоронах никогда, ни разу не наносило ущерб психике ребенка. Если мы вспомним фотографии конца девятнадцатого-начала двадцатого веков, до и после войны, — у гроба выстраивается весь выводок, как это было всегда, все внуки, правнуки, потом более взрослые люди. Эти дети не умирали потом от страха.
Сегодня есть табу на смерть. Оно витает в воздухе — никто же не сказал: не публикуйте некрологи. Где у нас сегодня светская хроника? Некролог это непременный элемент светской хроники. Как город может не сообщить о смерти важного гражданина? Но сегодня этого нет. Жанр некрологов исчез. Жанр надгробной речи исчез — люди не знают, что говорить у гроба. Они говорят всего пять слов: добрый; хороший отец/муж; хороший работник; рыболов, охотник, очень хороший дачник. И еще какую-нибудь белиберду. У нас исчезли категории. Мы оцениваем прожитую обыденными словами. «Он был добрый» можно о любом человеке сказать. Он был злой и невыносимый. Он любил букашек. Он добрый был по отношению к букашкам. Само слово, оно десемантизированное, оно не несет никакого смысла. Раньше в СССР: «он был пламенный пропагандист», «он был рационализатор», «он был борец за мир». Было очень много категорий, которые всеобъемлюще давали какую-то характеристику усопшему. Хорошо, пусть их нет, но что пришло взамен? Ничего.
Каждая смерть несет уроки. Люди не понимают, что из прожитой жизни можно извлечь уроки для себя. Люди сторонятся смерти. Вот у нас целая своя картинная галерея есть. Вот, например, изображение: женщина смотрит в зеркало и в зеркале она видит череп. О чем это? Жизнь очень скоротечна, а красота временна. Это назидание, что нужно пользоваться и красивым телом пока оно есть, и талантами. Если ты против общества, против людей, против морали, то талант твой отнимут. Вот был голос у Филиппа Киркорова — теперь нет. И Примадонна голос потеряла. А вот Кобзон в гроб будет входить и будет петь, и никогда не потеряет голос. Люди этого не понимают. Философия смерти находится за семью печатями — люди не хотят даже мыслить о ней. Вот в этом отношении наш музей это потрясающее место для размышления о вечных истинах.
— Как, кроме этого, можно попытаться разрушить это появившееся табу на смерть? Кроме музея у вас еще выставка «Некрополь»…
— Мы проводим мемориальные концерты, недавно привозили Марка Тишмана, было четыре с половиной тысячи человек. Это был концерт памяти усопших новосибирцев. «Терапия души» называется. Конечно, про меня говорили, что я некрофил, устраиваю пляски на костях и так далее, но мы выбрали этот путь и мы по нему идем. Мы понимаем, что нас будут критиковать и ругать, что не каждому хочется размышлять о смерти.
Конечно, все равно же внутри переживаешь, что о тебе так пишут, но я тут купил на аукционе десятитомную историю русской музыки. Читал по ночам. И в шестом томе обнаруживаю: 1834-й год. Концерт на Новодевичьем кладбище. Польская пианистка давала благотворительный концерт по сбору средств для инвалидов Великой Отечественной войны двенадцатого года. С меня, конечно, сто потов сошло в ту ночь. Я ничего не придумал, я продолжатель традиции! [смеется]
Когда мы в последний раз давали на радио информацию по поводу 1 июня: мол, если вы на машине, сегодня в парке памяти концерт, приезжайте, приводите своих друзей. Дали на радио информацию, а они стали возмущаться. Ну, конечно, сидят там в приемных так называемые маркетологи, девочки в коротких юбках: как же так, у нас этот праздник, День защиты детей. А мы говорили: день памяти. А в чем его послание? Чтобы дети не голодали, не умирали, чтобы они не болели, чтобы они получали образование. По всему миру 1 июня сопровождают митинги, манифестации, собирают деньги и прочее — а у нас это праздник обычный самый, шарики, конкурсы и так далее. Они даже осознать не могут, что смысл этого дня совсем в другом.
Тут ничего не поделаешь. Тут все зависит от культуры, сознания людей и зрелости. Что говорят астрологи? Они утверждают, что 25% людей никогда не будут себя соотносить со смертью — они не будут думать о ней, они умрут, не понимая, что они умрут через два дня, например. Они боятся смерти. Это незрелые души. Души, которые не имели воплощения в предыдущих [созданиях]. Они новенькие совсем. У них очень большой страх, и поэтому они будут всегда отодвигать. Конечно, они никогда не будут работать в похоронке. Конечно, они будут бояться присутствовать на похоронах. Если такого рода человек — журналист, то, конечно, он ничего не будет писать о похоронной индустрии. Их даже бессмысленно убеждать. А другие 25% — как те, кто у нас работает — люди, у которых было уже много воплощений. Они совершенно спокойно относятся к смерти, они видят красоту, эстетику смерти. У нас работал человек, который просто обивал гробы — он был студентом архитектурного [вуза]. Сейчас у него уже две витрины произведений. Мы показывали их на нескольких выставках, это настоящие произведения искусства.

И я действительно считаю это искусством. Я хотел сделать одну очень большую выставку-конкурс работ о смерти, но меня не поддержал «Союз художников России», не поддержал журнал «Живопись». Они сказали, что это неинтересно. Я пытался их убедить, что нет художника, который бы не писал о смерти. Они: «Мы не знаем таких». Я говорю: «А как же русские художники?» «Ну, это было в прошлом». Да нет же. В общем, пока я вел переговоры, месяцы уходили. Я собрал за очень короткий период тысячу пятьсот произведений — триста пятьдесят авторов из двадцати четырех стран мира. Это было грандиозная выставка. Люди тащили [картины] на спине, отовсюду их везли. Одну картину мусульманин написал: он, коленопреклоненный, держит мать, которая умерла у него на руках. Безумно красивая вещь. Художники меня благодарили. Говорили, что тридцать лет картина стояла, ни разу не выставлялась, никто ее не брал. А эти люди из журнала «Живопись» мой главный тезис не услышали. Я говорил, что нет более яркого чувства, чем смерть близкого. Ведь это же разрушение целого мира. Это настолько сильное впечатление, что оно обязательно найдет след в творчестве. Художники, поэты, писатели все равно будут на эту размышлять. Тут есть еще элемент нашей работы с людьми. Когда они оказываются в этих обстоятельствах исподволь, случайно — можно же прийти на «Ночь музеев»: «А, «Ночь музеев», смерть, интересно», —а оказываются в обстоятельствах, которые никогда в ежедневной ситуации невозможно было бы и представить. Ну вот, например, чтобы они ложились в гроб, и их опускали бы на лифте вниз. А в этой обстановке они на это решаются. Мы проводим социализацию смертью. Не для того, чтобы сделать их более смертными, а для того, чтобы показать, что смерть и искусство всегда рядом, и искусство и память это фактически одно и то же — потому что искусство всегда запечатлевает то, что вокруг и внутри.
В общем-то, если сегодня, спустя десять лет нашей работы, сравнить социопсихологическую обстановку в Новосибирске с близлежащими Томском, Новокузнецком или Омском, то можно сказать, что изменения грандиозные. Приезжают у нам преподаватели из Омска: «Невозможно представить, чтобы в Омске было такое». У них общество не готово. Но ведь мы же пробивались. Здесь это уже норма, и в этом не видят ничего предосудительного. Уже сейчас, в этом году, мы разрабатываем уроки для детей — «Смерть поэта», например. Делаем специальный раздел по Великой Отечественной войне, чтобы школы могли проводить выездные уроки. Мы не знаем детей, которые бы ужасались этому. Наоборот, так развивается эстетический вкус и зрелый, мудрый взгляд на жизнь. Смерть всегда выступает против КВН и ЧГК. КВН и ЧГК — это такое умствование, это демонстрация того, как человек может быстро мыслить, выстреливать какими-то фактами и шутить искрометно. Это тренировка памяти. Смерть восстает против этого Смерть сама по себе является мудростью. И наш музей учит этой мудрости. Не уму, не тренировке, не эквилибристике ума, а мудрости. Вот в этом ценность того, что мы делаем.