
«Елка у Ивановых» Александра Введенского — монолитный артефакт культуры прошлого века. Формально текст исполнен в виде пьесы, но такого жанра драматургии, в который бы вписалась «Елка», не существует, равно как и нет и подходящего ей театра: спектаклей по «Елке у Ивановых» значительно меньше, чем культурологических опусов о ней. Это не остановило театроведа Алексея Киселева создать для КРОТа еще один, впервые в истории рассмотрев этот антитеатральный объект с точки зрения театральной механики.
Театровед с пьесой «Елка у Ивановых» в руках подобен белке с орехом из «Ледникового периода». Непонятно, что делать с этой важнейшей в мире вещью, кроме как припрятать до следующей эры.




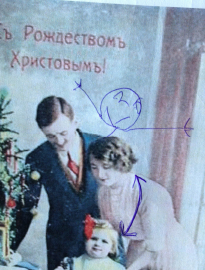


Поэт Александр Введенский писал пьесы только во второй половине 1930-х. Нечасто, либо по заказу, либо «в стол». Заказы поступали только от детских кукольных театров, поскольку чинарь, обэриут и «авторитет бессмыслицы» за пределами узкого круга почитателей был известен исключительно как автор стихотворений в журналах «Чиж» и «Еж». «Взрослое» же литературное наследие Введенского практически в половине случаев представляет собой многоголосия, где слева написано кто говорит, а справа — что; однако такая диалогическая форма не превращает его великие «Где. Когда», «Куприянов и Наташа» и «Потец» в пьесы. Дошедших до нас полноценных детских пьес для постановки — с ремарками и списком действующих лиц, — у Введенского столько же, сколько взрослых. Одна.

«Елка у Ивановых» — сочинение, провоцирующее и смех, и страх; наполненное изображением нелепых ситуаций, гротескными образами, ожившими зверьми, глупыми словами и элементами демонстративного (как бы мы сказали сегодня) абсурдизма. Попытка пересказа пьесы могла бы выглядеть так. В доме Пузыревых в канун Рождества няньки намывают многочисленных детей разных возрастов (от 1 до 82 лет) и с разными фамилиями (Перов, Серова, Петрова, Комаров, Острова, Пестров, Шустрова). Все ждут елку. Девочка Соня Острова (32 года) ведет себя плохо, демонстрирует вторичные половые признаки и произносит слово «блядь», за что няня отрубает ей голову топором. Няню уводят сначала к полицейским в участок, потом в сумасшедший дом; она кается без остановки. Тем временем вернувшиеся домой Пузыревы — мать и отец всех детей, — пребывают в отчаянии, «страшно кричат, лаят и мычат». Что не мешает им прямо у гроба дочери вскоре совокупиться (и тоже тут же засовеститься). Галантный лесоруб Федор — жених няньки. Узнав от служанки-любовницы о свершившемся убийстве, Федор также уподобляется зверю (квакает, мяукает, поет птичьим голосом), затем стремительно уходит учить латынь. Собака Вера ходит вокруг гроба Сони и поет грустную песню, с ней ведет мудрые диалоги годовалый Петя Перов. Голова Сони перебрасывается парой слов с телом. В то же самое время (8 утра) идет суд, совершенно нелепый — в стихах. При этом судьи один за другим умирают, но в конце концов все же начинается рассмотрение дела неких Козлова и Ослова, но в конце концов внезапно выносят приговор няне: «казнить-повесить». Наступило Рождество. За окном 1890-е годы, что позволяет автору пьесы подготовить финальную сцену развернутой ремаркой, мол, нечего жалеть этих персонажей: «Они все равно все умерли». Вносят елку. Дети «чисто умытые, цветами увитые» поочередно умирают без причины, а следом и родители. В последних репликах Пузырева-мать и Пузырев-отец обсуждают лесоруба Федора, который «выучился и стал учителем латинского языка».

43 персонажа с репликами. Около 60 с учетом слуг, поваров, нянек, солдат, сумасшедших, указанных в ремарках во множественном числе. Никакие Ивановы в пьесе не фигурируют. Отец и мать большого семейства носят фамилию Пузыревы, по всей видимости не передавшуюся по наследству ни одному из семерых детей. Указанный в списке действующих лиц Гробовщик не появится в пьесе вовсе, а такие значительные персонажи как Федор и Нянька тут (в списке) проигнорированы.
Художественная значимость «Елки у Ивановых» одной ногой стоит на абсолютно новаторском, «нецелевом» использовании драматургических механизмов, другой же — на непреложном факте: автор сочиняет буквально опасное для себя произведение, не имея ни шансов, ни намерений его публиковать, ни вообще какой-либо практической цели.
В пьесе содержится ненормативная лексика, сцены секса, жестокости и насилия: ничего подобного в истории русскоязычной драматургии на тот момент не было и если кому-то и приходило в голову сделать это, то он просто не осмелился.
Пьеса написана в разгар Большого террора. Многих из знакомых поэта вызывают на допросы, арестовывают и убивают. Такой контекст для большинства знатоков литературного авангарда служит основанием прочитывать «Елку у Ивановых» как кошмарный реквием по русской цивилизации. Конец истории, новый мир, где выживают только по недосмотру. «Ивановы» прочитываются как синоним «русского народа», а «Елка» — как внезапно и безоговорочно наступивший пиздец.
***
Текст «Елки у Ивановых» исследован вдоль и поперек филологами, текстологами и литературоведами разных школ, взглядов и поколений. Оставляя за скобками само собой разумеющееся эстетическое родство с Хармсом и Хлебниковым, видными учеными умами было обнаружено бесчисленное количество реминисценций — от Достоевского и Чехова до Евреинова и Набокова.
Сербский литературовед Миливое Йованович усматривает в сюжетных перипетиях Введенского пародию на «Преступление и наказание», сравнивая Соню Острову из «Елки у Ивановых» с Соней Мармеладовой, а лесоруба Федора ни много ни мало с Достоевским.
Французский славист Режис Гейро остроумно описывает удивительный путь Сони Серебряковой из чеховского «Дяди Вани» в мир позднего Введенского и обнаруживает очевидное сходство экспозиции «Елки у Ивановых» с первым актом «Кукольного дома» Ибсена.
Исследователь русского литературного авангарда Игорь Лощилов, указывая на бесчисленные интертекстуальные связи сочинения Введенского с произведениями Николая Евреинова, настаивает, что все они связаны с «мифоритуальным субстратом поэтической практики».
Каждый из авторов, так или иначе умещая произведение в обширный культурологический контекст, справедливо подчеркивает специфическую природу текста, подразумевающую невозможность быть исчерпывающе познанной.
Вместе с тем, будто сговорившись, исследователи: а) совершенно игнорируют историю постановок «Елки у Ивановых»; б) прочитывают пьесу как образец авангардной литературы, но не как текст для постановки. Между тем, именно театроведческий ракурс помогает выявить тут некоторые очень простые и принципиально важные моменты.

Когда чета Пузыревых и все их дети один за другим беспричинно умирают, арифметический подсчет смертей выявляет среди присутствующих одну выжившую — семнадцатилетнюю Варю Петрову.
Некоторые исследователи полагают, что Введенский, с точностью ювелира расставляющий «картины» по времени действия, а персонажей по локациям и даже симультанным мизансценам, — вдруг проявил нерасторопность. Другими словами, тупо забыл про одного из персонажей в горячке финала.
Другого мнения придерживется режиссер Александр Пономарев. Концепция его спектакля (совершенно выдающегося и предельно внимательного к действенной природе текста) отталкивается именно от ситуации с Варей Петровой, случайно оставшейся в живых. Выживший персонаж становится единственным свидетелем этой истории и переходит в следующий раунд под названием ХХ век.
Напомним: Введенский пишет пьесу в Харькове, где живет уже два года. За это время он успел жениться на Галине Викторовой; в браке родился сын Петр. Основной и крайне скромный заработок поэта — написание детских стихов для Детгиза и инсценировок для театра кукол. Так, по заказу Сергея Образцова, Введенский пишет пьесу для театра кукол «Концерт-варьете». Текст стал прототипом «Необыкновенного концерта» — знаменитого эстрадно-пародийного шоу, выпущенного сразу после войны. Не было бы «Концерта-варьете», не было бы «Елки у Ивановых».
В «Концерте-варьете» бегемота по имени Антон Многотоннович Толстокожев магия разрывает на куски. Обезьяна-пианист Мартын Кокос переворачивает хвостом ноты. Изо рта Толстокожева барс Барсетти вытаскивает одну за другой длинные разноцветные ленты, а потом и пианиста Мартына Кокоса.
Знание механики театра кукол сказывается на том, как устроена «Елка». Например, отрубленная голова Сони Островой общается с собственным телом. В драматическом театре такой трюк требует жирной условности, но в театре кукол — и это понимал Введенский, — возможно все.

Один из самых поэтичных эпизодов отведен говорящей собаке по имени Вера. В некоторых постановках режиссеры пасуют перед текстом: выводят на сцену, например, натуральную собаку и включают голос из динамиков («Про елку у Ивановых» Михаила Левитина, Омский драматический театр). В других — собаку играет человек: актриса («Актрисы» Видаса Барейкиса, ЦИМ) или актер («Елка у Ивановых» Дениса Азарова, «Гоголь-центр»). И только в одном случае Собака Вера — это кукла: в упомянутом спектакле Александра Пономарева этой куклой управляет годовалый Петя Петров. Такой вариант прочтения как минимум объясняет взаимопонимание этих двух персонажей.
В конце второй «картины» появляются звери: «Жирафа — чудный зверь, Волк — бобровый зверь, лев — государь и свиной поросенок». Проведя таинственный урок-ритуал, они «совсем как в жизни уходят». Что это, если не повседневная закадровая жизнь зверей из детского театра кукол.
***
Текст «Елки у Ивановых» написан в строго структурированной драматической форме, и закончен предположительно в 1939 году. Через два года труп Введенского сдадут с поезда, перевозящего арестантов на пути из Харькова в Казань, по легенде это случилось возле трагического для русской истории города Свияжска. Текст, изображающий события, которые происходили «за сорок лет до нас», впервые обнародован 40 лет спустя.
В середине 1960-х обэриутский архив был впервые распакован и начался неторопливый разбор. О «взрослом» творчестве Введенского, как впрочем и Хармса, знали всего несколько человек в мире. Два живых обэриута Заболоцкий и Бахтерев, философ Яков Друскин (спасший рукописи друзей в блокадном Ленинграде) и Тамара Липавская(Мейер). О репрессированных поэтах стало возможным вспоминать в мемуарах только после их реабилитации в середине 1960-х, издавать — еще позднее.
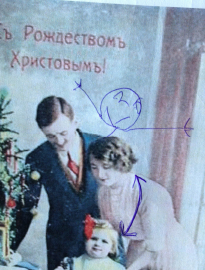
Тем временем, память о неформальной поэтической группировке со странным названием жила и множилась в изустной мифологии Ленинграда. Маргинальные художники и писатели, поэты и скульпторы, — подпольный слой интеллигенции колыбели авангарда, — переписывали какие-то стихи — по памяти или добытую где-то перепечатку. Так появляется прямая преемственность обэриутской эстетики сквозь вторую половину ХХ века — от чинарей, через театрального философа и режиссера Бориса Понизовского к поэтам Анри Волохонскому и Алексею Хвостенко. И далее: к театру «АХЕ» и ансамблю «Аукцыон».
С первыми изданиями собраний сочинений в начале 1980-х как грибы после дождя стали появляться спектакли в СССР и странах восточной Европы. В первый год XXI века театральный критик Александр Соколянский писал: «Творчество обэриутов — в любом истолковании — видится сегодня последним оазисом неангажированного искусства». Текст произведения «Елка у Ивановых» впервые прозвучал со сцены в 1987 году в Москве (спектакль «Елизавета Бам на Елке у Ивановых», режиссер Роман Козак, театр «Человек»). В 1990-е наделала шуму дилогия Оскараса Коршуноваса в Вильнюсе («Там быть тут» по стихам Хармса и «Hello Sonya New Year» по «Елке у Ивановых» Введенского) и часто упоминаемый здесь спектакль «Vánoce u Ivanovových» в Брно, Чехия (режиссер — Александр Пономарев).
«Vánoce u Ivanovových» в театре HaDivadlo, Брно, Чехия, 1998 год. Режиссер — Александр Пономарев.
«Hello Sonya New Year» в Литовской театральной академии, Вильнюс, 1994 год. Режиссер — Оскарас Коршуновас
***
Пьеса Введенского — не то, чем кажется.
Издали «Елка у Ивановых» будто бы гармонично встроена в общую картину русского литературного авангарда. Драматическое произведение в 4 частях и 9 картинах наполнено признаками «другого» искусства, своей причудливостью и многозначительностью адресующими напрямик к Хлебникову, Зданевичу и Крученых.
При детальном же рассмотрении внутри «Елки у Ивановых» выявляются настолько существенные механизмы, что вся эта стройная модель про «странный» авангардный опус, наследующий максимализм у футуристов, а поэтику у модернистов, — разрушается как планета Земля в «Автостопом по Галактике», обнаруживая совершенно неизученный культурный феномен, по отношению к которому прежняя парадигма выполняет ту же функцию, какую заслуженно приписывают запасному кусочку ткани к новым брюкам (никакую).
Текст наполнен «чеховскими», если не «островскими» подробностями сценической обстановки, что совершенно не свойственно ни драматургии авангарда вообще, ни Введенскому в частности.
Парадокс заключается в том, что с одной стороны именно каноническая модернистская структура драмы со списком действующих лиц и делением на эпизоды, то есть подчеркнутое внимание к квази-драматургическим элементам текста, — дают право ему называться и восприниматься пьесой; текстом, предназначенным для постановки на театральной сцене. С другой же — они-то, эти подробности про «восьмидесятидвухлетнюю девочку», «входит каменный санитар», «на восьмой картине нарисован суд», — и превращаются в непроходимую полосу препятствий для постановщика, толкающей его на путь изворотливости, вместо того чтобы служить ему костылем, как это принято в жанре «текст, предназначенный для постановки на театральной сцене».
В наличии приемы из психологической драмы (персонажи с памятью и историей взаимоотношений), античной трагедии («всегда ль вы ходите в котурнах»), эпоса («Всадников греческих туча как тень пронеслась по проспекту»), театра кукол (сцена с Жирафой, Волком, Львом и Свиным Поросенком), цитаты и квази-цитаты из Пушкина («Мне скучно писарь»), Чехова (Пузыревы — Прозоровы, Ивановы — Иванов, сад — лес) и Ленина («Учиться, учиться, учиться»).

Время то и дело соскакивает назад, настойчиво давая понять, что ни одна «картина», кроме финальной, не происходит во времени одна. Воображение ставит «картины» хронологически буквально рядом и запускает действие симультанно, в согласии с «часами слева от двери». Первая и вторая, седьмая и восьмая «картины» вообще занимают ровно одинаковое количество времени и происходят одновременно. В тексте — вторая картина следует за первой, на воображаемой сцене первая картина в одной части сцены, вторая — в другой.
Таким образом, ровно в тот момент, когда няня отрубает голову Соне (а дети обсуждают елку), лесорубы срубают елки (и обсуждают няню), одну из которых они доставят в дом Пузыревых в финале. Оба случая объединяет время и предмет: топор. А если учитывать и то, что к Елке относятся как к одушевленному предмету («Приведите елку»; «У нее даже шапки нет»), и учитывая ее губительное явление в финале, возможно предположить, что она состоит в дальнем родстве с мстительным Командором.
«В романе описывается жизнь, там будто бы течет время, но оно не имеет ничего общего с настоящим, там нет смены дня и ночи, вспоминают легко чуть не всю жизнь, тогда как на самом деле вряд ли можно вспомнить и вчерашний день. Да и всякое вообще описание неверно. “Человек сидит, у него корабль над головой” все же, наверное, правильнее, чем “человек сидит и читает книгу”. Единственный правильный по своему принципу роман, это мой, но он плохо написан». Введенский здесь (в «Разговорах» Липавского) имеет в виду своей роман «Убийцы вы дураки», до нас не дошедший. В этом рассуждении наиболее полно объяснен внезапный педантизм автора «Елки у Ивановых», постоянно сообщающего, сколько времени «на часах слева от двери». Течение времени в пьесе имеет много общего с настоящим. Согласно ремаркам, действие укладывается ровно в 15 часов, не считая 9-часового перерыва.
Часы слева от двери:
21:00 — 00:00. Няня отрубает голову Соне. Немые лесорубы поют.
00:00 — 04:00. Няня в полицейском участке. Пузыревы совокупляются.
04:00 — 06:00. Няня в сумасшедшем доме. Федор совокупляется со служанкой.
06:00 — 08:00. Перерыв.
08:00 — 09:00. Собака Вера поет. Няню приговаривают к смертной казни.
09:00 — 18:00. Перерыв.
18:00 — 19:00. Пузыревы приносят елку, все умирают.
Жанр «текста для сценической постановки» был знаком будущему автору «Елки у Ивановых» еще с ранних опытов в составе театра «Радикс» в 1925 году. Двадцатилетние поэты Даниил Хармс и Александр Введенский на пару сочиняли пьесу «Моя мама вся в часах» в процессе репетиций с актерами. Текст до нас не дошел, спектакль не состоялся. Тем не менее, именно там, на репетициях в опустевших (и не отапливаемых) залах ГИНХУКа формировалась специфическая театральная идеология. В последствии она была изложена в манифесте группы ОБЭРИУ и воплощена на феерическом театрализованном вечере «Три левых часа» в ленинградском Доме печати.
К театру вообще-то Введенский относился прохладно. Но зрительский опыт имелся и существенный. Петроградские (потом ленинградские) спектакли 1920-х годов, — Мейерхольда, Терентьева и ФЭКСов, — наблюдаемые начинающим поэтом, представляли собой в первую очередь зрелище как таковое. Ситуация, при которой на сцене актеры исполняют «картины из жизни», изображенные драматургом, — для Введенского на момент написания «Елки у Ивановых» так же архаична, как для нас фильм «Трактористы», и это не преувеличение. Ситуация, при которой сценическое действие вступает с текстом во взаимоотношения, начиная с «Ревизора» Мейерхольда — это норма.

В 1926 году обэриуты ставили спектакль «Моя мама вся в часах» — пьесу сочиняли Введенский и Хармс прямо на репетициях — это был, разумеется, сочинительский театр, где текст — только элемент действия, и не самый главный. В манифесте ОБЭРИУ имеется отдельная глава, посвященная театру, и в ней подчеркивается необходимость ухода от литературности в сторону обнаружение законов сцены.
То есть Введенский, когда пишет в 1938 году «Елку и Ивановых», обращается к форме «старого театра» намеренно. Стилизуя внешне структуру, сюжет же, как и развитие персонажей, реализации перипетий, — он выстраивает по своим, стихийным и невыявленным правилам и законам, в неустойчивом согласии с выбранной формой.
***
Введенский сочиняет текст, будто бы фиксируя увиденное некогда сценическое действие, порожденное в свою очередь каким-то другим старым текстом. В процессе той мысленной постановки и фиксации увиденного происходит эстетическая и содержательная деформация. По пути примешиваются еще пара случайных элементов и подобных мысленных квази-постановок. И в конце концов автор сам себя поселяет в пьесу, общаясь со зрителем-читателем посредством ремарок.
Попутно, в этом — одном из последних из сохранившихся — произведении Введенский-поэт отчетливо выводит и суммирует все три своих главных темы (которые в 1925 году сформулировал в беседе с Яковом Друскиным): время, смерть и Бог.
Театральная эстетика текста, где предмет имеет равные права с актером, — во многом наследует ранним опытам ОБЭРИУ и «Радикса». В заглавии пьесы выведено название дерева, предмета, главного и неизбежного объекта благостных мечтаний и ожиданий всех персонажей. Предмета все ждут, он появляется и все умирают. Он тут главный — как Бог, неизбежный — как смерть.
Не считая безмолвную елку, главного героя в пьесе нет. От актеров текст не требует исполнения роли с монолитным узнаваемым характером, психологическим рисунком и каким бы то ни было развитием. Пьеса диктует исполнителям постоянную немотивированную смену жанра и задачи. С няней в какой-то момент происходит что-то вроде раздвоения личности, но и она не прочь заговорить стихами вместе с арестовывающими ее полицейскими. Общую установку на сдержанность и отстраненность предполагаемого исполнения содержит реплика годовалового Пети Перова: «Что я могу сказать. Я могу только что-нибудь сообщить».
Текст состоит из поэтических и прозаических модулей, он драматический по форме, абсурдисткий по содержанию, по-черному смешной, со сквозняками ужаса от подстерегающего персонажей безумия и перманентно присутствующей смерти. Этот текст ставит в тупик жанровой чехардой и будто взятыми с потолка словосочетаниями, обескураживает постоянным соседством высокого и низкого, он непонятен в своей эклектике и поразительно целостен.
Самый продуктивный способ взаимодействия читателя с этим текстом — это мысленная постановка спектакля. Этот спектакль подобен мерцающей мыши из «Серой тетради» и будет находиться вне времени и пространства, существуя одновременно в любом времени и везде. А потому одновременно существовать и не существовать как знаменитый кот Шредингера.
Мы увидим как лесоруб Федор срубает топором рождественскую Елку, а в ту же секунду тем же топором его невеста нянька Аделина Францевна Шметтерлинк срубает голову Сони Островой. Мы услышим как суд над няней совершают не судья, а Собака Вера. До нас донесется голос Леонида Федорова: «А теперь ты сама станешь труп». Увидим как немолодые супруги неловко совершают половой акт возле их покойного дитя; и это будет спектакль Константина Богомолова «Князь» по Достоевскому. Увидим как няньку с отрубленной головой уведут в полицейский участок, а потом на психиатрическое освидетельствование. Спустя семьдесят семь лет рифма к «Елке у Ивановых» будет во всех новостных выпусках — и один из важнейших уроков, которые можно вынести из творчества Введенского заключается в том, что удивляться тут совершенно нечему. Скоро Рождество.