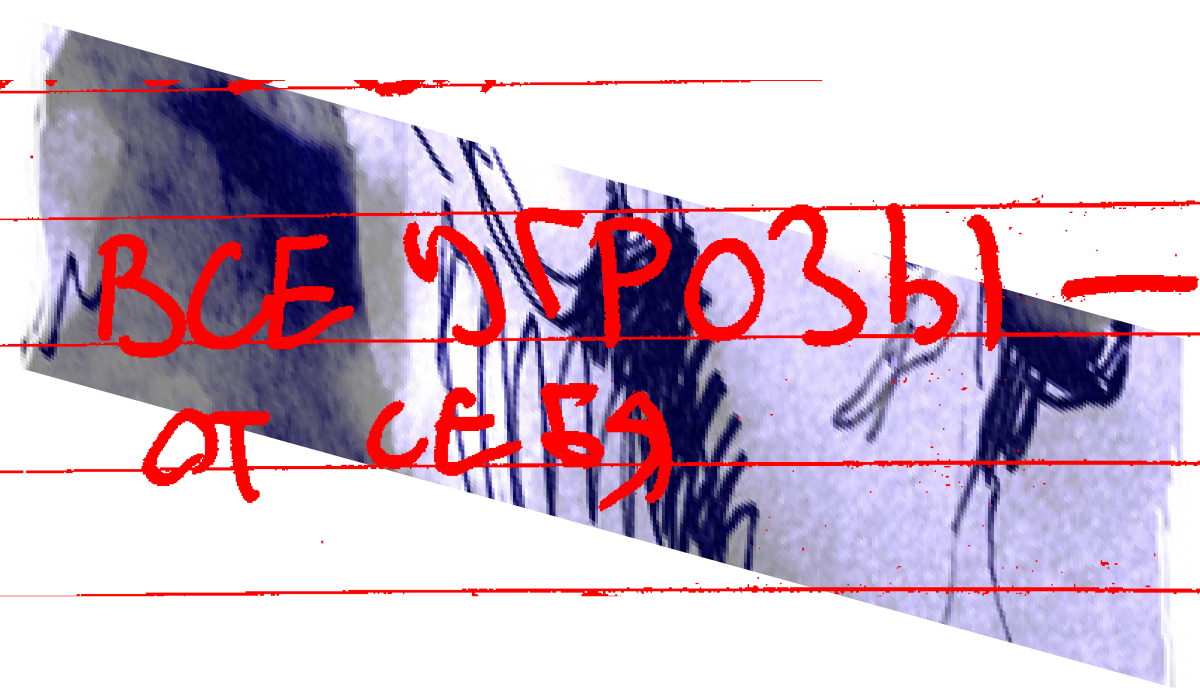
Александр Пятигорский (1929-2009), выдающийся философ, лингвист, один из основоположников тартуско-московской семиотической школы, соавтор Ю. М. Лотмана и М. К. Мамардашвили, профессор Лондонского университета, в последние годы жизни редко появлялся в Петербурге и Москве. Это интервью было взято после лекции-беседы «Мышление о мышлении: прерывистая тропа философа», прочитанной Пятигорским в Доме Ученых РАН. Одно из последних интервью мыслителя, оно в силу ряда причин пролежало без публикации три года. По этой сбивчивой, лаконичной беседе видно, какой поистине кротовой оставалась мысль Пятигорского, – ясной и одновременно убегающей от однозначности.
Оглядываясь на этот диалог из сегодня, я еще раз убеждаюсь, что Пятигорский действительно был «бухгалтер с шаманским бубном» (по меткому выражению Г.Амелина). Я вглядываюсь в этот слог, с его вопрошаниями и подвывертами. Ученик Ю.Н. Рериха, поклонник Гурджиева и автор труда «Кто боится масонов?», Пятигорский и в своей прозе неоднократно намекал на то, что сам он из СССР был вывезен некой сектой. Великий мистификатор Пятигорский был еще и необычайно харизматичным оратором. Вот почему обаяние его личности сложно ухватить в тексте, зато столь просто ощутить на видео. Бонусом я запускаю ролик, в котором Александр Моисеевич с необычайной иронией рассказывает притчу о том, как его отшил еврей-нувориш в Лондоне, а также ролик с историей о костях Маркса и дефективном мальчике.
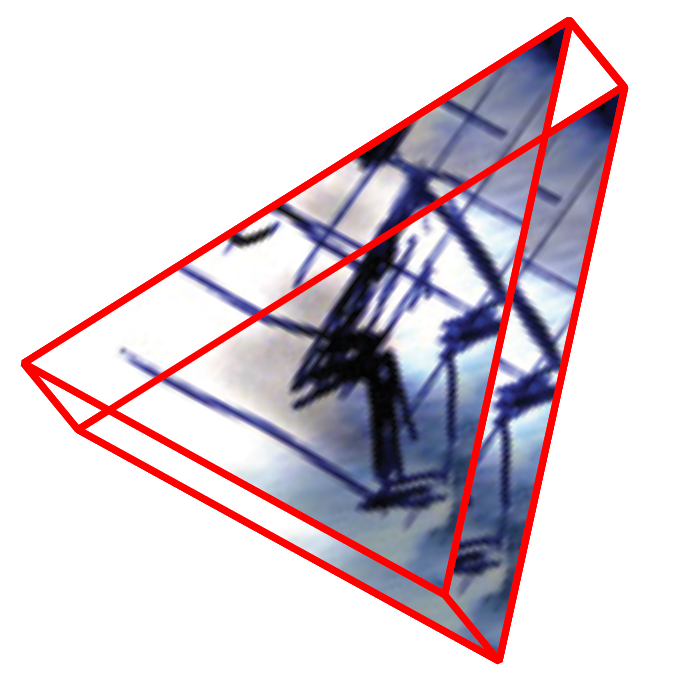
— Знаете, я вчера пытался объяснить, что никакая философия не начинается с нуля и что человек должен сформировать какое-то ядро своего собственного философствования. Но он ведь не на голой земле стоит. И при любом его нынешнем культурном состоянии и уровне рефлексии он может — и это необходимо для реального философствования — может знать, что было в философии как в одной из существенных частей всей нашей (то есть эллинско-римско-средиземноморской) культуры. И здесь гораздо продуктивней начинать не с Гераклита и Парменида, а с более близких к нам по времени философов. Но это не инструкция — это такое общее педагогическое соображение.
— А Вы до сих пор убеждены, что писатели девятнадцатого и двадцатого веков (Пруст, в частности) больше сделали для философии, чем философы того же времени?
— Для меня это очевидно. Но Пруста я бы на первое место не поставил. Я думаю, что такая интенция к созиданию философии в прозе хронологически восходит к Толстому и Достоевскому, если мы условимся, что первый том «Войны и мира» и «Записки из подполья» были написаны в пределах жизни одного поколения. С каких-то мест у Толстого, отдельных глав и больших философских кусков у Достоевского всё это, видимо, и началось.
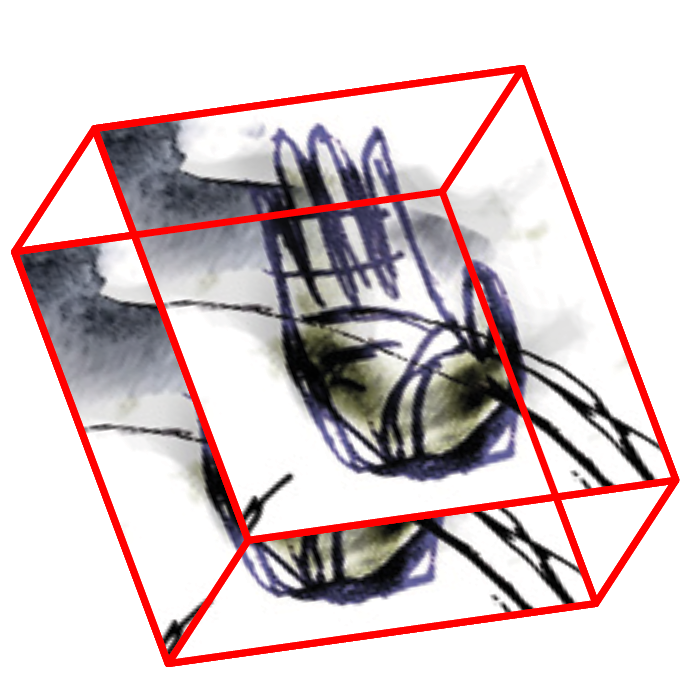
— Хотел спросить о Вашем коллеге, одном из самых своеобразных русских мыслителей – Георгии Петровиче Щедровицком. На чем вы сходились и на чем не сошлись?
— Мы были большими друзьями и не были согласны ни в чем. Я не посетил ни одного семинара Щедровицкого. Я просто считаю, что это был феноменально умный и тонкий человек. И мы дружили совершенно отдельно от наших начальных и продолжавшихся всю жизнь философских несогласий. Главное из них состояло в том, что Щедровицкий фактически сводил философию к методологии, в условиях навязываемого марксизма это было своего рода лазейкой свободы. Но для меня методология может быть только стороной, да и то, не всей философии, а только той ее части, которую я называю эпистемологией. С этим он никогда бы не согласился.
— Я знаю, что Вы мало пользуетесь Интернетом и компьютером, для Вас важно писать рукой. Виртуальное – феномен для Вас?
— Для меня это слово имеет чисто научный смысл как та сторона действительности, которая обладает только вероятностью превращения в то, что мы называем реальностью. В любом мышлении и в анализе сознания может возникнуть ситуация, когда рассмотрение виртуальности может помочь, но мне думается, что это слово сейчас в обществе фигурирует как пошлейшая болтовня. Существует много слов естественного (бытового) языка, которые искусственно философизируют и пытаются выразить какими-то абстрактными философскими эквивалентами.

— Понятие смерти к ним не относится?
— В моей философии, вернее, в моем пока еще эскизном учении о мышлении смерть, несомненно, играет важную роль. Будет банальным повторять за Платоном, но я это сделаю: не может быть реального мышления без рефлексии над своей собственной смертью.
— Вы говорили в свое время о тенденции к финализму, когда человек начинает считать некое понятие завершенным. Насколько это опасно?
— Да, эта «законченность» абсолютно фиктивна. Надо сначала для себя определить феномен, понять его историчность и временность. Потом сформулировать свое отношение к нему, а не утверждать ложно объективным образом неизбежность его конца. Речь обычно ведь идет о чем-то ценном и хорошем. И здесь я часто цитирую (потому как сам лучше не могу сказать) знаменитое место из письма Пастернака к Мандельштаму, когда первый говорит: «Какой финал, какой конец? Не захотим — не кончится, а захотели — уже этого нет». Понимаете? Он реально почувствовал феномен культуры как то, что творится! И творится прежде всего с самим тобой. Если ты не можешь это пронаблюдать, то ни Толстой, ни Чехов, ни Ибсен не помогут. То есть в этом моменте Мандельштам оставался пессимистом, а Пастернак, во всяком случае, тогда, в двадцатых, оптимистом.
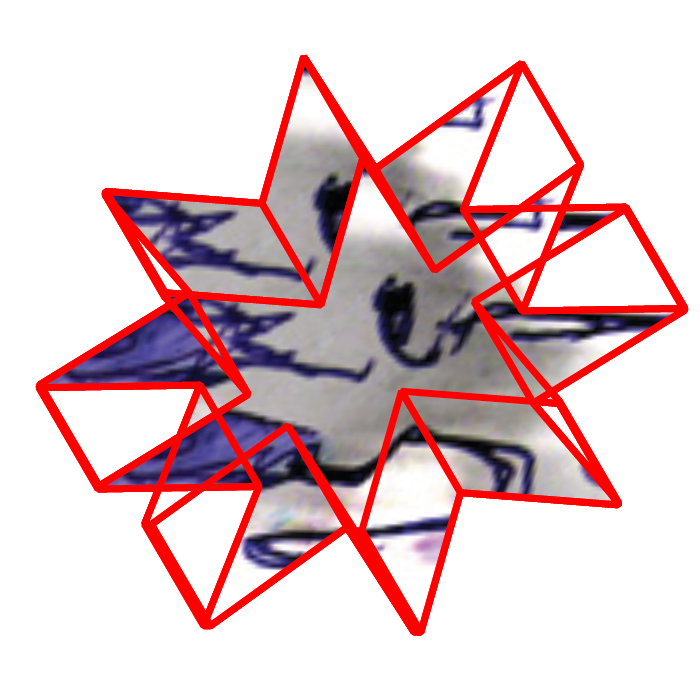
— Не возникает ли эффект финализма от того, что язык неким образом подавляет и завершает мысль, которая на самом деле бесконечна?
— Здесь мне слишком трудно так вот с кондачка ответить. Вообще очень много вокруг говорится о языке. Тут важнее всего осознать язык, на котором ты говоришь, как твой язык. И уже потом – как русский или английский, и только потом – в абстрактных терминах, очень часто сомнительных – как язык культуры или язык науки. И многое зависит от того, как пройдет твоя собственная апроприация. Ведь присвоение языка – это культурная работа. То есть ты не используешь остановленные готовые вещи, а ты делаешь вещь своей, превращая ее в другую вещь. Язык становится препятствием для людей, которые ищут каких-то опор для своей собственной мыслительной инертности, которые действуют во имя принципа экономии мышления. Этот принцип абсолютно господствует последние полвека (я говорю, конечно, о среднем культурном человеке). Поймите, нам вообще ничего не угрожает с другой стороны. Все угрозы исходят только от себя. И это очень интересно, потому что когда я говорил об освобождении от рабства контекста, это не вопрос о том, насколько сильно будет давить контекст (как полагает значительная часть интеллигенции), а о том, что ты сам будешь предпринимать.
— Кстати, про угрозы. Что вы думаете о «распространении» ислама, о котором со страхом говорят сейчас многие?
— Я не специалист в этом вопросе, я ведь индолог. Ислам знаю очень плохо, хотя знаю много специалистов по исламу и просто мусульман. Я думаю, что этот феномен преувеличен страхом дураков, которые всегда боятся посягательства на свое и не способны понять, что на самом деле это они генерируют в своем мышлении это посягательство. Но та «популярность ислама», которая сейчас на поверхности средств массовой информации, в значительной степени создана антиисламистами. А ведь любое запугивание среднего человека может дать двойной эффект.
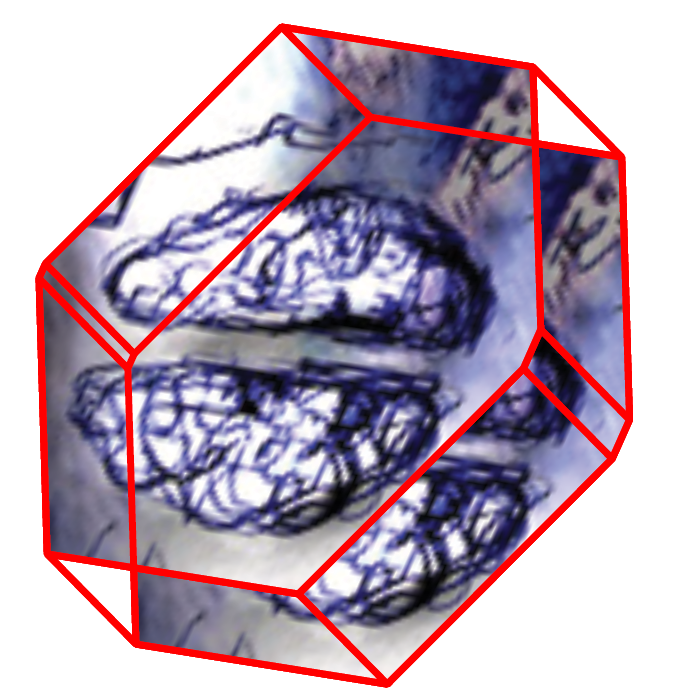
Я не знаю ни одного человека (а у меня бездна друзей и знакомых), которому бы распространение ислама чем бы то ни было угрожало. Я уже не говорю о том страшном невежестве, которое господствует в реакции среднего человека на ислам. Вы же помните, что в начале первой – позорной – Чеченской войны – люди просто не знали, что чеченцы были самой немусульманской нацией Кавказа. Правительство было катастрофически плохо информировано экспертами, которые всегда наполовину невежественны, а очень часто занимаются открытым политическим жульничеством. Чеченцы оставались язычниками до начала двадцатого века. Шамиль же вообще не хотел их в армию брать, а вот война стала делать из них мусульман.
Текст: Алексей Ставицкий
Исходники иллюстраций: Евгения Ставицкая