
Потребовались 17 лет и КРОТ, чтобы интервью Сергия Черепихо (тогда еще известного как Тюрин) с не нуждающимся в конферансе Сергеем Курёхиным, все-таки увидело свет. Примечательно, что слова Капитана, сказанные меньше чем за год до его кончины, к 2012 году не только не потеряли в остроте и точности, но и, напротив, зазвучали с особой силой — настолько мощно резонирующей с происходящим, что инициатор разговора решил вытереть свои реплики из итогового текста, чтобы не вредить монолитной мысли собеседника, текущей сквозь вопросы, обстоятельства и время. Ухватившись за слова Курехина о его интересе к рефлексии, спровоцированной «Поп-Механикой», но не имеющей к ней прямого отношения, КРОТ решил уважить маэстро и снабдил интервью серией детских рисунков, вдохновленных музыкой и образами Сергея Анатольевича. Дугин, Пригов, японские онанисты и расовые теории — в разархивированной беседе с Курёхиным с обстоятельным предисловием Черепихо.
Предуведомление из 2020 года
Интервью было взято 25 лет назад, в ноябре 1995 года. Курехину на тот момент было 41 год — на год меньше, чем мне сейчас. А моему сыну, автору одной из иллюстраций к этому тексту, сейчас 18, он на год старше меня тогдашнего. Где-то в моих архивах лежит напечатанная на пишущей машинке статья о концерте «Популярной механики» — это был мой первый концерт в принципе. Статью отказались брать вообще все СМИ. Спустя несколько лет группа «Злой поп», в которой я играл и играю до сих пор, выпустила альбом «Злые поп-механики», задействовав идеи Курехина.
С. Ч.
Студент первого курса журфака, однажды я забрел в институт Герцена и попал на лекцию Александра Дугина. Идейный лидер Национал-большевистской партии баллотировался той осенью в Думу и использовал любую возможность, чтобы заявить о себе. Лекция была посвящена «новому человеку» в понимании национал-большевизма. Студенты изрядно скучали во время наукообразных речей философа-геополитика и оживились с появлением Курехина. Известный мастер разговорного жанра, он около часа развлекал публику, рассказывая небылицы о чудесных переменах в своем организме…
Вблизи Курехин оказался намного проще и доступнее, чем я мог предположить. Я завалил его кучей вопросов о «новом человеке» и договорился об интервью, представившись журналистом из газеты «Вести».
Наша следующая встреча состоялась в гулком холле ДК Ленсовета перед концертом «Поп-Механики» 7 ноября 1995 года. Курехин выглядел усталым и грустным, — пожалуй, ему изрядно поднадоели все эти назойливые журналисты, наперебой требующие интервью, а затем публикующие безбожную отсебятину. Ленсоветовская уборщица отнеслась к нам без должного пиетета, не признав в неброско одетом человеке того самого маэстро, который соберет здесь сегодня вечером полный зал. Нас чуть ли не с матом выгнали из холла, и нам пришлось переместиться в другой, сумрачный и шумный.
Интервью, получившееся каким-то чересчур серьезным – не в пример другим курехинским, – так и не было опубликовано. «Вести» взяли только маленький фрагмент, переврав в нем всё, что только можно, и озаглавив его «Второе лицо баламута». После этой публикации мне было уже как-то неловко показываться на глаза герою самого интервью.
Через полгода Курехин умер от рака сердца. Лимонов, постоянно общавшийся с ним в ту пору, вспоминал, что маэстро, судя по всему, предчувствовал скорую смерть. Если так, то становится понятна серьезность тем, которые мы затронули.

Я занимался музыкой с раннего детства. Помню, что родители, когда мне было четыре года, взяли домой учительницу, чтобы она занималась со мной роялем, потом пошел в музыкальную школу лет в шесть-семь…
Я разделяю классическую музыку и академическую. Классическая — это то, что является плотью музыки, по большому счету. А есть академическая музыка, которую я ненавижу. Я грубо говорю, но она у меня почему-то персонифицировалась в лице Ростроповича, — это концентрированный предмет пошлости и академизма, такого вульгарного и тупого, закостенелого академизма, когда человек, в принципе, творцом не является, а является хорошим... э-э-э… даже ремесленником его трудно назвать, — если бы он был без претензий, он был бы классным ремесленником. А претензии академических музыкантов на то, что они имеют отношение к чему-то вечному, подлинному, а все остальные к этому отношения не имеют, — омерзительнейшие претензии… Вот это напишите обязательно — претензии на то, что они одни только обладают истиной, а все другие этой истиной не обладают. Классические музыканты так не считали. Они как раз не были академистами. Академистами становятся от тупости и бездарности.
Постмодернизм был просто необходим в определенное время, когда было очень тупое и серьезное отношение к искусству, и появившаяся ирония была очень свежа, очень нова, было новое качество в музыке. Эти люди, постмодернисты, среди них было очень много талантливых… Но потом, когда их идеи подхватило огромное количество полуидиотов, вот тогда это конечно же выродилось и превратилось просто в паноптикум. Когда я, например, вижу какую-то иронию или когда люди начинают над чем-то издеваться и развлекаться, особенно на телевидении, когда никто ни к чему серьезно не относится, все это выглядит безвкусно, ужасно и омерзительно. Так что нельзя говорить, что вот это вот постмодернизм либо его отголосок. Это всё то, что называется эпигонство, деградация. Очень просто идти за кем-то, очень сложно быть кем-то и самому что-то придумывать.
РЕФЛЕКСИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ НА УРОВНЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ,
ИНАЧЕ ЭТО ХУЙНЯ СОБАЧЬЯ
И КОЗЛИНАЯ ОТРЫЖКА
Название это перекочевало из журнала американского «Popular Mechanics», это чисто технический такой журнал. А поскольку тогда мы занимались совершенно непопулярной музыкой, то слово «популярная» казалось какой-то дисгармонией. Мне это очень понравилось: механика популярной культуры.
Это не театр, это не группа, не способ мышления, не идея, не проект… «Поп-механика» — это я сам. Мне очень важно было создать какой-то определенный стиль. Так вот, «Поп-механика» — одно из олицетворений этого стиля.
Я избегаю шокирования публики. Люди, которые думают, что я хочу кого-то шокировать, вообще ничего не понимают в «Поп-механике».
Поскольку критики все дебилы, как я уже много раз говорил, то они видят только визуальную сторону «Поп-механики». Это люди, либо лишенные слуха, либо ничего не понимающие в музыке. Они просто смотрят на то, что происходит на сцене: этот прыгает, этот еще что-то делает… Но никто из них не в состоянии описать собственно основу «Поп-механики», то есть музыку. Для этого нужно обладать не просто общим кругозором, как многие наши критики, а высокой музыкальной культурой. Потому что «Поп-механика» в первую очередь это музыка. А уже во вторую очередь я стараюсь, чтобы она была максимально зрелищной. Но это ни в коем случае не театр. Более того, я часто говорю на репетиции: «Это ужасно, это театр!» Театр — это когда происходит какое-то действие, а музыка идет как сопровождение. Здесь же все наоборот. Причем действие — не для того, чтобы просто оживить как-то музыку, оно неотделимо от музыки.

Я не видел ни одной здравомыслящей статьи о «Поп-механике». Но, понимаете, я сам всё прекрасно понимаю касательно себя и «Поп-механики». Мне важно совершенно другое. Мне не важно, чтоб человек понял, что я хочу сделать, или описал бы как-то «Поп-механику», — это меня совершенно не интересует. Меня интересует, чтобы была, так сказать, рефлексия, построенная по поводу «Поп-механики», но очень необычная, очень оригинальная, которая, с одной стороны, не имела бы отношения к «Поп-механике», но, с другой стороны, чтобы «Поп-механика» стимулировала бы эту рефлексию.
Критики все, в общем-то, — дураки и идиоты. Потому что лучшее, что я читал, это как бы более или менее правильное понимание того, что я сделал или хотел сделать, или основной идеи, которая во всем этом заключена. Это в лучшем случае. Но это все-таки, для меня во всяком случае, малоинтересно. Ну что толку, если критик более или менее понимает, что я хочу сделать. Рефлексия должна быть на уровне произведения, иначе это хуйня собачья и козлиная отрыжка. Вот это надо обязательно вставить в статью, хорошо? Это очень важные слова. Это как раз беда нашей журналистики: чтобы передать стиль, нужно передавать целиком всё, что делает человек. Вот, скажем, если я сейчас начну говорить какие-то вещи, ну, грубо говоря, матом, то, естественно, редакция их выбросит. Значит, она лишит меня чего-то основного из моих составляющих. То есть какую-то часть моего языка она отбросит и представит меня в искаженном виде. Вот это беда прессы нашей. Она зажата, закомплексована. Вторична. Она вторична, и это самое ужасное.
Жизнь так быстро идет, так много дел и работы… У меня большая семья. Семья отнимает большое количество времени. И моя музыка, и всякие дела — тоже отнимают у меня 20 часов в сутки. Плюс ко всему я очень люблю читать книжки, с детства, и от этого уже никуда не деться. Я пытался это прекратить, но понял, что ничего не выйдет. Потом, я слушаю огромное количество музыки. Мне очень важно знать, что происходит в музыкальном мире сегодня.
ИСТОРИЯ РАСОВЫХ ИДЕЙ В ГЕРМАНИИ 1920-30-Х ГОДОВ
— ЭТО ПРОСТО МОРЕ СТРАСТЕЙ
Наиболее любимые мои мыслители и музыканты, они, как правило, фактически забыты. Я очень люблю Masonna, я очень люблю Gerogerigegege, вообще японскую шумовую музыку. Ее слушать невозможно, я сам иногда слушаю с ужасом. Потом, и сиюминутные вещи очень важны. Например, я очень любил Штокхаузена. В основном я слушаю сейчас современную классическую музыку, классический авангард ХХ века. Штокхаузен, Гарри Парч, Джон Кейдж. Я слушаю очень много психоделии конца восьмидесятых годов, американской и английской. Я слушаю джаз, ранние биг-бэнды.
Мне важны сейчас такие универсальные концепции мироздания. Меня очень интересуют расовые теории, как бы их ни ругали сейчас, ни говорили, мол, фашизм, национализм. Если отбросить всякие предрассудки и предвзятости, есть совершенно грандиозные исследования; даже история идей, связанных с расовыми теориями, настолько сама по себе необычна, настолько странна, настолько увлекательна, что она просто детектив напоминает. Особенно история расовых идей в Германии 20-30 годов. Это просто море страстей, море конфликтов научных, противоречивых мнений, исключающих друг друга…
Меня интересуют пограничные области между жизнью и смертью, между имманентным и трансцендентным, между этим миром и другим миром. А сатанизм это как раз суперувлекательно, супер. Алистер Кроули — это величайший человек. Он написал огромное количество невероятной сложности и интересности текстов, которые полны невероятных интуиций, предчувствий, и то, что он говорил тогда, во многом оправдывается сейчас. Он не переводим на русский язык. Но его не перевести не потому, что там очень сложный язык, а потому, что очень тонкая мысль. Вот Хайдеггер, — у него до сих пор нет перевода более-менее адекватного. Просто человек, который переводит, должен быть так же гениален, как Хайдеггер.
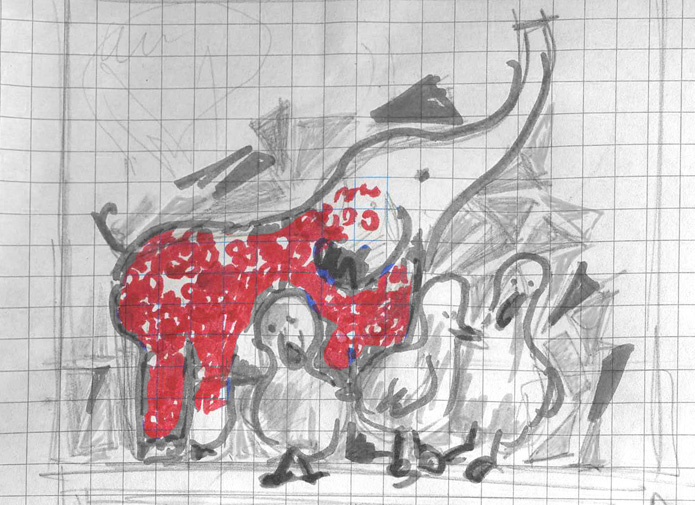
То, что мы с Дугиным говорим, то, что вот Лимонов говорит, это как раз и есть возвращение к истинному, нормальному романтическому идеалу. Что такое романтический идеал? Это бывает экстремистский, чистый порыв, самопожертвование, бывает более умеренный. Это когда у человека есть то, во что он верит и чему служит. Вот это как раз то, что мы проповедуем, то, о чем мы говорим. Сейчас никто ни во что не верит. То, что сейчас называют верой, это одна из форм неверия. Нужно очень любить что-то, чтобы этому чему-то служить. Как говорит Дугин, мы разучились любить и разучились ненавидеть, мы разучились отличать черное от белого, все как бы полудрузья, полувраги, есть как бы полувера, полуубеждения, полуполитика, полуэкономика, время «полу-». Даже любовь приобретает в последнее время какой-то сомнительный характер.
90% того, что я делаю, не попадает, к сожалению, на территорию нашей страны. Наши критики обсуждают только 10% моей активности, а может быть, даже меньше, потому что основная сфера моей деятельности находится совершенно в другой области. «Поп-механика» это для меня сейчас какая-то очень незначительная часть деятельности, для меня уже далеко не самая важная. У меня такое количество проектов, и они настолько отличаются друг от друга, что судить обо мне по одному из сорока, предположим, проектов, как это делают критики, — довольно неадекватное мнение.
Наша пресса деградировала. Поэтому когда мы придем к власти, почти все газеты будут закрыты, а критики будут уволены как просто некомпетентные, их место — убирать картошку. Сейчас очень хороший прецедент был, что наконец-то стали заводить уголовные дела против журналистов. Потому что журналисты вознесены сейчас на такую высоту, которой они не заслуживают. Газеты должны писать о том, что происходит сегодня, — это их основная задача, — а не заниматься критическими разборами, псевдоискусствоведческими и псевдокультурологическими.
Свежесть для меня в последние годы была важнейшим критерием оценки вообще всего. Сейчас не только свежесть, конечно. Но свежесть очень важна, особенно для новой музыки.
НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИИ
СВОИХ ОРГАНОВ
Я ПОМЕНЯЛ МЕСТАМИ
Пригова я очень люблю, замечательнейший человек, чрезвычайно талантливый. С ним мы давно очень знакомы, и даже были какие-то совместные выступления, очень давно, в начале восьмидесятых. Года полтора назад мы чисто случайно встретились в Нью-Йорке, у нас там было выступление на Международном поэтическом конгрессе, всем очень понравилось. Потом я Дмитрия Александровича пригласил в спектакль «Колобок», который я поставил в театре Балтийский Дом, потом было несколько небольших выступлений в «Поп-механике». Блестящий поэт. Грубо говоря, своеобразный, если можно так говорить, но тем не менее явно сильный талант. А для меня такие простые слова, как талант, значат очень много.
Физические изменения присутствуют. Я научился контролировать некоторые процессы, которыми раньше не удавалось управлять, потому что они как бы ускользали. Я научился перемещать функциональность органов. Я об этом уже несколько раз говорил, все воспринимают это как шутки. Я никогда не шучу. Всё, что я говорю, это чистая правда. Даже вот эта идиотская программа «Ленин — гриб», которая получила большой резонанс, там всё чистая правда. Это как раз тот синтез рационального и иррационального, который на мой взгляд должен быть. Там, — по большому счету, на уровне глубинном, не на уровне каких-то мелких деталей, — все чистая правда — по поводу грибного сознания и так далее. Сейчас книга Маккены продается, недавно вышла. Там все подробно описано человеком, который профессионально этим занимался на протяжении многих лет.
Некоторые функции своих органов я поменял местами. Например, это касается мозга и сердца. Процесс мышления осуществляется другим органом, процесс желудка осуществляется частично желудком, частично другим органами.
Как стать новым человеком? В первую очередь нужно думать. Думать, думать и думать.
