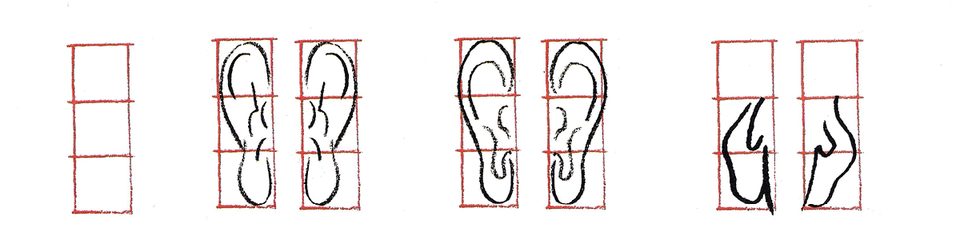КРОТ продолжает борьбу против современного мира и мира в целом — а на этом пути, как известно, не найти союзника лучше, чем радикальное православие: поговорили с Григорием (Лурье), епископом Петроградским и Гдовским (РПАЦ), об исихастской традиции, невидимой брани, христианском героизме, Нильсе Боре, психоанализе и других полезных предметах, которые, в случае верного употребления, помогут вам стать чуточку лучше. Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими. (Матф. VII, 6). С уважением, КРОТ.
Что такое исихазм и как он возник?
Буквально слово «исихазм» означает «безмолвие» — так называют православную, особенно монашескую практику «умной» молитвы, внутренней молитвы, которая является основой монашеской, да и в общем христианской жизни. Поскольку с этим были связаны определенные религиозные движения в XIV веке, и на этом разошлись православие и католичество, то часто думают, что речь идет о чем-то характерном только для православия. Само слово «исихазм» стало монашеским аскетическим термином еще в IV веке — в Египте и не только. Поэтому нельзя сказать, что речь идет о сугубо греческом феномене, как думают некоторые: хотя слово само греческое, но оно использовалось всюду, где существовало монашество, и оно имеет параллели во всех остальных языках христианского мира.
Как лично вы понимаете исихазм? Это теория, описывающая внутренние состояния человека, или же совокупность медитативных практик? Или точнее было бы сказать, что в исихазме теория вытекает из практики?
В свое время известный богослов и патролог Иоанн Мейендорф выделил три смысла слова «исихазм». Исконный смысл – это определенная аскетическая практика. Во вторую очередь – это некая теория, которая тоже остается в рамках аскетики, оправдывает эту практику, а третий – определенное понимание православной догматики в целом. (Возможно, я не совсем точно воспроизвел схему Мейендорфа, потому что исихазмом называют еще определенный поворот в культуре и искусстве — не исключаю, что корреляция тут не так точно прослеживается, как казалось в 1960-е годы). Позднее филолог Гелиан Прохоров выделил еще политический исихазм. Что это значило в XIV, и даже в XVI веке, мы примерно можем понять, а что это значит теперь – вопрос спорный, но, конечно, это очень дальняя производная от исконного смысла.
Если говорить, чем исихазм значим лично для меня, то речь пойдет об аскетической практике.
Не могли бы вы немного рассказать о своем личном исихастском опыте?
На каком-то этапе (причем даже раньше, чем я убедился, что Бог есть), я считал, что если Бог есть, то он должен быть абсолютно доступен любому, и в то же время если мы не видим, что все вокруг с Богом разговаривают, то причина в том, что они сами не хотят — ну или что Бога нет вовсе. Но когда я убедился, что Бог есть, я решил, что должна быть такая религия, в которой Бог, о котором говорит Библия, напрямую общается с любым желающим. В поисках соответствующей литературы я однажды наткнулся на Григория Паламу и понял, что это оно. Все мои интуиции там были, но они составляли бесконечно ничтожную часть целого.
На что это похоже? Ну, например у вас есть ощущение, что вы существуете, вам это никто не доказывал, и вы сами не сможете доказать свое существование — но это первичная интуиция, на которую вы опираетесь в рассуждениях обо всем остальном. И точно так же я ощутил, что есть Бог, тот самый, о котором говорит Библия, и это стало для меня первичной очевидностью. И уже опираясь на этот факт, я стал дальше выяснять, что и как. У Паламы я прочитал, что нужно молиться внутренне, что есть такая практика как Иисусова молитва, которую следует все время держать в уме. Что бы ты ни делал, как бы ты ни жил, главное чтобы у тебя внутренне всегда была молитва, и если ты молишься каким-то образом внешне, будь то дома или в церкви, то все равно это нужно только для того, чтобы была внутренняя молитва. Вот это я тогда очень четко усвоил. И совершенно неважно, какие ощущения эта молитва у тебя вызывает, важно то, что она меняет тебя и даже мир вокруг тебя в меру необходимости — в этом я тоже убедился в раннем возрасте на практике: вдруг происходят какие-то события, которые так бы никогда не могли произойти, меняется поведение людей и так далее. Конечно, это все игрушки для детей, но если ты сам в это время ребенок, то тебе такое и надо, чтобы убедиться, что это работает, что это есть.
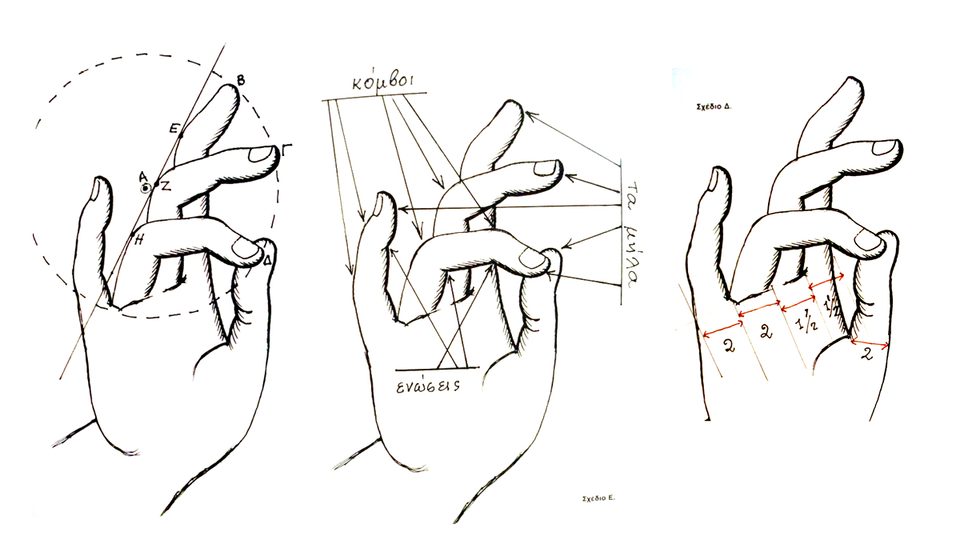
Сейчас обо всем можно прочитать в интернете, но в 1970–1980-е годы ситуация была иная. Из каких источников вы узнали об исихастской традиции в советское время?
На определенном этапе жизни я понял, что являюсь верующим в христианского Бога. Но поскольку христианских богов, как я уже тогда знал, достаточно много и даже неопределенно много, надо было понять, как зовут того, в которого я верую, выбрать из большого ассортимента. Для этого я читал о Боге все, что можно было достать. Дело было в 1980-1981 годах. Кроме того немногого, что можно было достать на русском языке – а у меня тогда не было знакомых, у которых водился религиозный самиздат – я с детства понимал, что что-то на эту тему можно почитать по-церковнославянски и поэтому очень любил сборники «Труды отдела древнерусской литературы», готовившиеся сотрудниками Института русской литературы Академии наук (Пушкинского Дома). Мне церковнославянский и древнерусский язык этих памятников был более-менее понятен, хотя я и был довольно молод. И так, читая все подряд, я наткнулся в 1981 году на статью Гелиана Прохорова «Сочинения Давида Дисипата в древнерусской литературе» (она вышла еще в 1979-м). Там были опубликованы славянские переводы средневековых сочинений монаха Давида Дисипата, в которых он кратко излагал суть учения Григория Паламы. Это «паламизм для чайников». Его аудиторией, собственно, была Анна Савойская, императрица, которая решила вникнуть, что это такое. Григорий Палама (1296–1357) как раз и был главным богословом исихастов, а Анна Савойская была императрицей во время гражданской войны 1341–1347 годов; интерес к исихазму у нее пробудился тогда, когда стал побеждать сторонник исихастов и сам будущий монах, а тогда император Иоанн Кантакузин… Понимая, что теперь исихазм станет государственной религией, она захотела с этим учением познакомиться.
У нее был католический бэкграунд при этом?
Да нет, у нее не было вообще никакого бэкграунда. Она была примерно как я на тот момент. Славянский мне был понятен, но греческий, который за ним стоял, — нет. Я ничего не понял из этого текста, но Прохоров очень хорошо сделал свою публикацию: он предвидел, что большинство читателей будут как я – прочитают текст для чайников, но не поймут, потому что они даже не чайники, а куча металлолома. Поэтому он еще раз своими словами пересказал то, о чем там идет речь, для чайников второй степени. И вот это прохоровское изложение на основе Давида Дисипата, то есть третья производная от Григория Паламы, мне было совершенно понятным, я оказался его целевой аудиторией. После этого я стал считать Прохорова своим quasi-крестным, а через два года познакомился с ним лично. У меня был просто шок от его изложения – примерно полстраницы большого формата ТОДРЛ занимала именно эта часть статьи Прохорова, но она полностью покрывала мои интуиции, то, во что я на тот момент верил, и показывала какие-то вещи, в которые, как я понял, я тоже должен поверить.
В той же статье Прохорова были какие-то ссылки на вторичную литературу, которую надо читать. Я понимал, что сразу читать святых отцов бесполезно, но в тексте мне встретилось важное имя — Иоанн Мейендорф. После этого я пошел в Публичную библиотеку и заказал все книги Мейендорфа, которые знал. Мне выдали только одну, на французском языке, которая потом выходила в русском переводе под моей редакцией — «Введение в изучение Григория Паламы». Я читал ее в юношеском читальном зале, куда допускались студенты. Другие книги я потом нашел, они были в Библиотеке Академии наук, и это хорошо, что в Публичке их не оказалось: я начал читать с того, что там было, и понял — это самое главное, что мне надо изучать. Однако я решил, что историческая часть «Введения» мне на данный момент не нужна, и читал только вторую, где было богословское учение. С тех пор моя вера, обретенная за чтением Мейендорфа, не менялась. Но там были, конечно, длинные цитаты из Григория Паламы в переводе на французский, зачастую в подвале был греческий текст, который я не понимал, потому что тогда даже не начинал учить греческий, только буквы знал. Но то, что я понял тогда из чтения Мейендорфа на французском, до сих пор составляет суть моей веры и моего православия. Я поверил, что надо идти в православную церковь, именно благодаря Григорию Паламе, понял, что хочу быть в церкви Григория Паламы – и сейчас могу сказать то же самое. Меня не интересует Петр Иванович или владыка имярек, которые могут быть сами по себе вполне достойными людьми. При всем к ним уважении, у меня нет задачи принадлежать к одной и той же с ними церкви. Но мне важно принадлежать к той же церкви, к которой принадлежал и принадлежит Григорий Палама.
Что в учении Паламы самое важное, на ваш взгляд?
У Паламы самое важное — это учение об обожении. В чем смысл пришествия Христова и в чем смысл человеческой жизни? Понятно, что пришествие нужно было для того, чтобы жизнь человеческая могла достигнуть смысла. Ну, а в чем тогда этот смысл заключается, если он по большому счету один и у нашей жизни, и у пришествия Христова? Палама говорит ясно, что смысл в обожении. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. В том же смысле, в каком совершенный Бог стал человеком, не переставая быть таковым, в том же смысле и настолько же человек становится Богом. Бог стал человеком во Христе (согласно православному учению, а не какому-нибудь другому) совершенно, и вот так же совершенно человек должен стать Богом. Тут такое дело, что при земной жизни мало кому подобного совершенства удавалось достигнуть, хотя есть примеры, но даже микроскопический сдвиг в эту сторону уже радикально меняет то, что было прежде. На фоне этого все остальное меркнет, а все другие жизненные задачи, впечатления, воспоминания просто обнуляются.
Насколько хорошо вы знали тогда Евангелие?
Вообще не знал. Конечно, я был культурным человеком, читал его неоднократно, но речь ведь идет о неких базовых мифах, которые, как я уже тогда понимал, можно толковать как угодно, и в то же время доступа к аутентичному толкованию Нового Завета у нас нет, если только оно не доступно нам каким-то мистическим путем. Мы считаем, что оно доступно мистическим путем, через православное Предание. После этого я понял, что благодаря Григорию Паламе у меня появляется доступ к Евангелию. Если Новый Завет — просто какой-то набор сюжетов для мировой литературы и искусства, то это просто неинтересно, нет смысла тратить на него время. А чтобы понять что-то специфическое в этом тексте, ты должен читать его через какое-то предание. Те, кто говорят, что прочитали Евангелие, и оно их всецело пленило, тоже читали его в рамках чего-то, а не просто так. Они вставили его в какое-то предание, но это может остаться неотрефлексированным. А я понимал, что бесполезно читать, вставляя Новый Завет непонятно во что. Для меня еще было важно, что Григорий Палама писал после разделения православия с католичеством и был против объединения с католичеством по догматическим причинам, тогда для меня непонятным. Я решил, что пока не стану с этим разбираться.
А как вы тогда относились к католичеству?
Для меня был важен выбор между католичеством и православием, потому что католичество меня привлекало эстетически. Еще когда я был атеистом, я был к нему приучен, даже еженедельно посещал мессу больше года. И эстетически, и культурно католичество казалось своим, а православие немного чужим. Я понимал, что из-за эстетической или культурной привязанности веру определять нельзя, а из Григория Паламы я сделал такой вывод: может быть, католичество и хорошее, но раз Григорий Палама говорит, что лучше не надо, то, не говоря худого слова о католичестве вообще, я буду там, где Григорий Палама. Так я пришел в церковь Григория Паламы, а поскольку Мейендорф думал, что православие представляет собой систему официальных церквей мирового православия, представленную в СССР того времени Московской патриархией, то я и пошел в Московскую патриархию.

Можете ли вы кратко объяснить с точки зрения религиоведения, как отличить исихастскую традицию от Кастанеды и подобных духовных практик, популярных у интеллигенции в перестройку?
Меня от них тошнило. Конечно, я их знал, и еще задолго до перестройки интеллигенция их любила, самиздат существовал, просто не было широкого доступа.
Мне просто казалось, что это началось году в 1988…
Нет, конечно. Уже в 1981 году вовсю ходил по рукам Кастанеда в самиздате среди моих друзей, у них всякие секты были… Меня тошнило от этого даже эстетически, и, если разобраться, я чувствовал, что там вообще нету Бога, там какие-то духи. Причем с теми, кто увлекался Кастанедой, я тогда общался довольно близко, и это был уровень не просто читателей, но практиков, которые составили потом секту, занимались какими-то фокусами… Например, в начале 1980-х они могли зажечь огонь между ладоней или показать собеседнику, что делают в это время люди, которые находятся далеко — чтобы у него в голове возникло нечто вроде псевдогаллюцинаций. У одной девочки пропали родители, опаздывали с дачи, ее жених говорит – ну давай посмотрим что они делают, и показал ей – она видит в своей голове, что они едут в автобусе, хотя с дачи должны были ехать на электричке. Оказалось, отменили электричку, и они кружным путем поехали на автобусе. Поэтому я не говорю, что там ничего нет, что все это ерунда. Но к этому я потом стал относиться как к бесовщине, а тогда относился просто с недоверием.
Кастанеда представлялся мне не просто мифологией, литературным приемом, но настоящей практикой. Однако там не было реального Бога, в которого можно верить, и как вариант я это не рассматривал. Просто не было вообще малейшего тяготения в эту сторону.
Как исихазм попал в Россию и какую роль сыграл в нашей культуре?
Большую роль сыграл, но тут нужно понимать, что в любой стране исихазм переживает периоды расцвета и упадка. Поэтому он несколько раз попадал в Россию — надо думать, что даже в самые первые годы после крещения Руси, но потом развивался и приходил в упадок. Какие-то периоды лучше задокументированы, какие-то хуже. Например, от домонгольской Руси до нас практически не дошло текстов, которые позволяли бы судить, что там было в плане молитвенной жизни. Самый знаменитый расцвет исихазма — вторая половина XIV века, когда под влиянием Византии и наших монахов, совершавших паломничества на Афон, развивалось монашеское движение, шла колонизация лесов сначала в районе нынешнего Сергиева Посада и дальше. Потом оно развивалось примерно в течение ста лет, а вершиной этого движения — причем подножие его тогда было уже съедено в пределах Москвы, в Троице-Сергиевой лавре был уже в большой степени упадок — стало движение нестяжателей, начатое Нилом Сорским во второй половине XV века. Потом был упадок и преследования нестяжателей в середине XVI века, вытеснение их на периферию — на Соловки, в Литву. В XVII веке начались всякие смуты, и может быть лучше всего исихазм сохранялся в это время в современной Украине. Но там тоже были свои гонения: Петр Могила, например, безусловно был гонителем исихазма, он незаконно занял место киевского митрополита вместо исихаста Иова Борецкого. Потом был большой упадок, потом подъем с Паисием Величковским, который, однако, не мог оставаться в пределах Российской Империи — он ушел в Румынию, и там благодаря ему был огромный расцвет исихазма в XVIII веке. Потом ученики Паисия стали возвращаться в Россию, пошло возрождение некоторых русских монастырей в первой трети XIX века. Последствием этого является, с одной стороны, Оптина пустынь, с другой, Игнатий Брянчанинов, при всем между ними различии. Благодаря тому, что в XIX веке исихазм в России возродился, он оказал огромное влияние на всю нашу культуру и на всех православных, в большей или меньшей степени, и только благодаря этому, я думаю, Россия в XX веке показала такое количество новомучеников и исповедников. Да, этого было недостаточно, чтобы полностью изменить судьбу страны, чтобы не было революций и так далее, все эти злые процессы развивались, но что-то все равно осталось. Сохранилась Катакомбная церковь под советским гнетом, и что-то такое есть и сейчас.
А есть ли вообще основания говорить о существовании русской исихастской традиции? Или все хорошее, грубо говоря, приходило с Афона, а в дикой России только портилось?
Дело в том, что когда речь идет о русской церковной традиции вообще, чаще всего подразумевается московская традиция. Если говорить именно о московской – то да, все портилось, но русская традиция – не только московская и не только западнорусская, связанная прежде всего с территорией современной Украины. Там тоже был исихазм, тоже сложилась важная традиция, без которой не было бы русского XVIII века. Конечно, русская исихастская традиция в ее оригинальном и очень вдохновляющем виде – это нестяжатели, Нил Сорский.
Вы можете объяснить, почему св. Нилу Сорскому в какой-то момент стало важным заниматься организационной деятельностью, создавать отдельный скит, а не спасаться «на своем месте» в Кирилло-Белозерском монастыре, терпеть поношения от братии и вообще смиряться?
Скит Нила Сорского, как он функционировал при его жизни, не противопоставлял себя Кирилло-Белозерскому монастырю, он использовал монастырь как бэкграунд. В сохранившемся собственноручном завещании Нила Сорского говорится, какие книги надо отдать в библиотеку монастыря. Он как бы пользовался абонементом монастырской библиотеки, и в пустынь принимались монахи, которые предварительно прожили сколько-то времени в монастыре и хорошо себя показали. Монастырь служил предбанником скита. Вообще вопрос о стяжательстве как таковом не был принципиальным. Суть в том, что спор крутился вокруг права монастырей владеть землями, но — вопреки распространенному пониманию — не сводился к нему. Нестяжатели стояли за запрет на монастырское землевладение, но не отрицали, что оно теоретически допустимо (и что оно реально существовало у разных византийских святых). Они были против него, потому что считали, что в Московии того времени это поведет к извращению монашества, и не ошибались.
В чем была идея Нила Сорского, когда он решил организовать скит? Тут речь об исихазме в смысле уединения, о том, чтобы совместить относительное уединение и наличие учеников. Как и многие его предшественники, Нил Сорский начинал спасаться отдельно, но потом пришли ученики, которых нельзя было прогнать, но и жить с ними вместе было нельзя, так как это нарушило бы весь ритм жизни. Ему уже не требовалось изобретать велосипед — он воспользовался тем, что было придумано в монашестве для таких дел, то есть скит, и ученикам пришлось жить на некотором расстоянии от него. Исторического жизнеописания Нила Сорского не существует, есть «Житие» (поздний текст, XIX века), есть разные свидетельства о нем, и все. Он добился того, чтобы его могила была непонятно где, он был очень последовательным. Можно, конечно, сказать, что такое монашество принципиально не отличалось от египетского – и это правильно, – и все-таки сделать так, чтобы не отличалось то, что происходит совершенно в других условиях, невозможно. Бог у нас один, монашество одно, христианство тоже все время одно, но нужно что-то принципиальное, чтобы с непринципиальными отличиями его воспроизводить.
Как вы думаете, почему в условиях того времени победили именно иосифляне?
Этот вопрос имеет какой-то смысл, только если говорить о конкретных сроках. В долгосрочной перспективе иосифляне побеждают всегда, потому что они представляют дух века сего. Этот дух всегда побеждает, а потом поднимается какая-то новая волна. Поэтому они в принципе не могли не победить.
Почему дело Нила Сорского проиграло с точки зрения церковной политики XVI века?
Потому что в то время церковная жизнь была крайне политизирована, и вопрос заключался в том, на кого поставит царь Василий III (тогда еще формально — великий князь). Он сначала поставил на нестяжателей и хотел провести реформу с отчуждением всех монастырских земель, типа петровской. Под это была уже написана сохранившаяся, но до сих пор неизданная Кормчая Вассиана Патрикеева, ее помог довести до ума Максим Грек, который как раз приехал сюда в то время, и все это царю нравилось, но не нравилось другое. Так церковь стала бы независимой, и, кроме того, нестяжатели совершенно не терпели раскола с Константинополем, который иосифляне поддерживали и выступали за полный автаркизм (об этом в моей книжке «Русское православие между Киевом и Москвой» подробно написано). А нестяжатели постоянно ставили вопрос о том, что надо вернуться под юрисдикцию Константинополя, что раскольное положение московской церкви, которое закрепилось уже с 1467 года, надо прекращать. За что, собственно, посадили Максима Грека? В сохранившихся судных списках сказано, что он спрашивал, на основании чего Москва считает себя автокефальной. Ему говорили, что на основании патриаршей грамоты. Он говорил – хорошо, а нельзя ее посмотреть? Я ничего не слышал о существовании такой грамоты! Ему говорили – можно, но не показывали. Потом это ему припомнили, и это стало частью обвинения. Естественно, никакой такой грамоты не существовало.
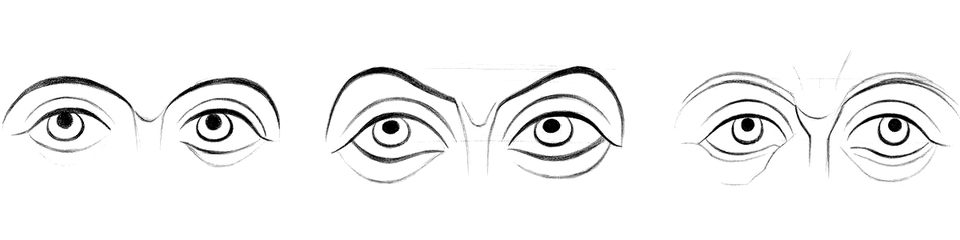
То есть это был чистый блеф?
Чистый блеф, более того, была грамота с отлучением Москвы, которая хранилась в Литве. То есть когда исихастам локально что-то удавалось, они это делали. Еще надо спросить, почему они проиграли в 1525 году — хотя тогда уже Максима Грека и Вассиана Патрикеева разгромили, но была возможность реванша. Я считаю, что князь Курбский тоже был политическим исихастом, и реванш исихазма был возможен с войсками Стефана Батория, короля польского и великого князя литовского. Курбский в это время был духовным чадом главного русского исихаста, старца Артемия, который тоже (чуть раньше, чем он) бежал в Литву. Артемий был исихастом следующего поколения, он уже в конце 1540-х годов, когда шла реабилитация Максима Грека, стал игуменом Троице-Сергиевой лавры. Тут его иосифляне подсидели, обвинили в совершенно нелепой ереси и сослали на Соловки. Артемий будто бы разделял ересь Матвея Башкина, хотя он просто говорил, что это не ересь, а дурь у молодого человека. Сейчас трудно сказать, была ли у Башкина именно ересь какая-то определенная — но зато дело сшили. А в это время на Соловках был хороший игумен, будущий митрополит Филипп (Колычев) — видимо, он и помог Артемию бежать, потому что иначе невозможно представить, как он оттуда выбрался. Он бежал в Литву, а вскоре бежал и Курбский. Старец Артемий много написал в защиту православия, это была целая школа исихазма.
Идея о том, что Ивана Грозного надо просто казнить – это политический исихазм, на мой взгляд. «История великого князя Московского» Курбского, которую недавно, в 2015 году, издал Константин Ерусалимский в «Литпамятниках» [один из редакторов КРОТа устраивал презентацию данного издания, а другой написал подробный отчет о ней. — КРОТ] с моим участием — там Иван Грозный обвиняется в таких преступлениях, за которые его следовало казнить даже по представлениям исихастов. Нил Сорский не говорил же никогда, что еретиков нельзя казнить.
Это можно сопоставить с иезуитской темой тираноборчества, дозволительности казнить царя-тирана, которая была в то же время?
Это было и в Византии. Например, с тем, что можно казнить новгородских еретиков, спорили, потому что они каялись — иосифляне говорили, что после покаяния надо казнить, нестяжатели говорили, что казнить нельзя. Но нестяжатели тоже считали, что еретиков можно казнить: это известно из того, что соответствующие страницы «Просветителя» Иосифа Волоцкого сохранились в подлинном автографе, написанном рукой Нила Сорского. По кодексу Юстиниана и правоприменительной практике Византии это относится к тем еретикам, которые согрешали каким-то особенным богохульством. Просто за ересь казнить можно было по закону, но по факту никогда не казнили, а вот когда еретики какие-то особенные гадости христианству делали, богохульство всякое, тогда казнить было можно. Курбский доказывает, что вина Ивана Грозного заключается как раз в глумлении над православными обрядами.
В чем глумление? В опричнине и ритуалах в Александровской слободе?
Да. С точки зрения Курбского, все это фактически сатанинский культ под видом православия. Но тогда, конечно, Ивана Грозного надо казнить. И тогда совершенно нормально сделать это вместе с войсками Стефана Батория – почему нет? Если Ивана Грозного приглашали на польский престол, то почему нельзя Стефана Батория пригласить на московский?
Какой светский орган, с точки зрения Курбского, мог вынести такое решение? Боярская дума?
Не надо никакого решения, увидел и убей. В принципе, да, Боярская дума, но если этого никто не делает, то начинается прямая ответственность.
То есть это аналог католических теорий, согласно которым за некоторые преступления суверена можно просто убить без суда?
Скорее это аналог Ветхого Завета, там же говорится о преступлениях против веры: просто иди и убей, ничего не дожидаясь. Иван Грозный, согласно такому обвинительному заключению, совершил преступление против веры, поэтому это возможно. В этом и заключается политический исихазм.
Теории о том, что царь является особой неприкосновенной фигурой, помазанником Божиим, не существовало тогда в Московской Руси?
Ее пытались ввести, но, конечно, в Византии ее не было. В Византии это не было проблемой — если царь отступает от веры, с ним можно делать все, что угодно. Исихасты так же на это смотрели: Ивана Грозного надо просто убрать, они его считали настоящим исчадием ада.
Можно ли говорить о параличе исихастской традиции на Руси в XVIII веке? Традиция прервалась, и были только Дмитрий Ростовский, пиетизм, «Духовные упражнения» и иные западные влияния?
Исихазм в начале XVIII века на Руси немножко оставался — например, Иов Анзерский, бывший духовник Петра I, на Соловках. Но в целом в конце петровского времени и в послепетровское время все это было раздавлено. Я понимаю екатерининские реформы относительно монастырей и думаю, что все правильно было сделано, хотя очень почитаю Арсения Мацеевича, у него была своя правда, но эта правда была запоздалая, и в то время следовало поддержать реформы Екатерины.
Исихазм в те годы ушел — показательна судьба Паисия Величковского, о котором мы говорили выше. И уже в 1790-1800-е годы мы видим, что ученики Паисия возвращаются в Россию, в южные губернии, потом они и на север поднимаются, в Александро-Свирский монастырь.
Вы интересуетесь среди прочего психоанализом. Возможен ли перевод святоотеческого антропологического языка на язык психоаналитической терминологии, или прямая концептуальная трансляция невозможна, требуется некое опосредование?
Я не просто думаю, что возможно, я сейчас пишу книгу, которая является осуществлением такого проекта. Я давно уже думал этим заняться, но теперь наконец приступил, начал писать. Святоотеческая антропология возникла не на пустом месте. Были аналогичные античные учения, например, то же учение о трех силах души – это мейнстрим святоотеческой антропологии, но возникло оно раньше, и даже неизвестно у кого, потому что у Филона оно уже цитируется как традиция. Плутарха иногда упоминают, но появилось это учение еще раньше. Я обнаружил, что если брать современный психоанализ во всех его версиях, то можно найти такое их сочетание, которое полностью покрывает все, что есть у нас в святоотеческой антропологии, хотя у нее другие цели и другое понятие нормы.
У психоанализа нет мистической цели, вместо этого есть цель достигнуть комфорта, умения жить со своими неврозами?
Все же нельзя сказать, что там цель только достичь комфорта. В каком-то приближении да, но в принципе его цель — поддержание организма, души и тела в здравии, а уж зачем здравие нужно, там не разбираются, в медицине не нужно разбираться с этим.
Но само представление о динамической психиатрии, из которого вырос психоанализ, имеет предысторию в античности, в XIX веке и так далее. Динамическая психиатрия повторила святоотеческий подход. В XIX веке возник страшный контраст: позитивистское представление о психологии давало оптимистическую картину, которая сложилась еще в XVIII веке и стала претендовать на научность, и совсем другое представление было в аскетике, согласно которой в человеке сплошные страсти. Благодаря психоанализу стало понятно, что Святые Отцы были правы. И как это оценивать, что рекомендовать? Естественно, аскетические и психотерапевтические рекомендации будут разными. Даже если я советую что-то, а мне приходится это делать по долгу службы, приходится говорить: для вашего здоровья я могу порекомендовать вам то-то и то-то, но это не христианская рекомендация, а христианская будет другая, причем одно другому чаще всего не противоречит.
То есть бывает так, что вы говорите: исихазм всякий вам сейчас вообще не нужен, нужно просто полечиться, сходить к терапевту, чтобы он таблетки прописал?
Сплошь и рядом. Но слушаться доктора — тоже аскетика. И в этой аскетике говорится, что благодушное перенесение болезней — полезный подвиг, смиренно и благодушно терпеть не так-то просто. И многим людям, психически больным в том числе, нужна именно такая аскетика и никакая другая (потом, может быть, понадобится и какая-то другая). Но без смиренного представления о себе человек не пойдет лечиться. Чтобы пойти лечиться, надо осознать проблему. Особенно это касается лечения аддикций, но также и других психических заболеваний.
В Евангелии мы находим достаточно радикальные призывы: «оставь все», «порви со всеми», и в то же время существует мнение, что исихастской Иисусовой молитвой может заниматься любой. Существует ли соблазн заменить евангельский радикализм некоторой медитативной личной практикой?
Это сложнейший момент, потому что познание истинной веры как раз связано с ответом на этот вопрос. Моя изначальная интуиция заключалась в том, что Бог открывается человеку так, чтобы совсем, казалось бы, недоступным человеку способом с ним объединиться. Но когда я позднее познакомился с православным учением об обожении, оказалось — это ровно то, что я думал, и еще больше того, о чем я думал. В то же время я понимал, что обожение должно быть доступно для каждого: если Бога нет, то и ответа нет, но если есть, то обожение доступно для каждого, и при этом практически никто этим не пользуется, потому что им это не нужно. Им хочется другого.
В этом, собственно, и состоит радикализм Евангелия и исихазма. Многие Святые Отцы объясняют, что если ты начнешь заниматься аскезой, у тебя само все отвалится. У некоторых авторов «Добротолюбия», сборника духовных текстов, в основном, IV–VII и еще XIV веков даже есть такое понятие – отрешающая от мира любовь к Богу. Если будешь любить Бога, то все эти привязывающие к миру эмоции, если они раньше не отпали, то отпадут. С другой стороны, это не ведет к конфронтации с миром как таковым: как говорит ап. Павел, только «к началом и ко властем» конфронтация, а не со всем вообще. Почему не ведет к конфронтации? Потому что ты понимаешь, что это все мирское и так твое, но ты этим не пользуешься, тебе оно не нужно. Или пользуешься, и Господь все подаст в нужный момент. Но не возникает почвы для зависти, чтобы что-то захапать, наступает освобождение. Но это все мелочи в сравнении с тем, что есть Бог сам по себе, просто бонусы.

Может ли исихастская традиция существовать без монастырей?
Без монашества не может.
Я имею в виду практику послушания и искуса в монастыре — как, например, на Афоне. Полно ведь книжек про то, что нужно найти старца, подчиниться его воле и т. п.
Послушание нужно всегда. Но в истории бывает по-разному, и в наше время старцы, которые любят брать на себя руководство чужой волей, должны восприниматься с крайним подозрением. В целом практиковать исихазм могут люди, ведущие разный образ жизни, но чтобы традиция поддерживалась, нужно монашество. А что представляет собой монашество в наше время? Думаю, что многие формы монашества, которые нам привычны, не имеют будущего, а может даже и настоящего. Конечно, интересный вопрос, какими могут быть новые формы — но какие-то будут. Этим проблемам посвящен цикл моих выступлений на ютубе «Монашество после Катакомбной церкви».
Допустим, кто-то прочитал в интернете какие-то аскетические тексты, например, Добротолюбие — можно ли от этого впасть в прелесть и начать обожествлять свои собственные психические состояния? И есть ли от этого какие-то очевидные средства?
Надо читать Добротолюбие и тому подобное, а также жить определенной церковной жизнью. Человек в любом случае должен быть членом какой-то церковной общины — может быть, дистанционно, жить за тысячу километров. В Добротолюбии же не написано, что можно вообще не принадлежать к Церкви, что можно быть еретиком, что можно слушаться прелестных старцев. Относительно прелести там много предостережений. Выполняй это, и все будет хорошо.
Если человек правильно молится, то Бог даст ему правильное понимание догматов?
Можно и так сказать, но это идеалистично и оторвано от жизни, потому что любой человек молится неправильно из-за собственных греховных страстей. Хотя если человек неправильно молится, но хотя бы старается, то, конечно, Бог поможет ему как-то вырулить.
Как вы относитесь к мнению, согласно которому главное в христианстве — это некая «любовь к ближнему», а аскетика – внешние технические упражнения, которые не столь важны?
Если мы считаем, что христианство это то, о чем написано в Евангелии, то там вообще-то главное – смерть. Если мы внимательно почитаем апостола Павла, то увидим, что там тоже в смерти дело, поэтому отношения с миром, то, что можно сделать с миром, хорошо укладываются в слово «смерть» — «в смерть Его (Иисуса) крестихомся». Если эту смерть называют «любовью к ближнему», то пожалуйста, но если про любовь к ближнему говорит наш современник, то явно имеется в виду что-то другое.
В Евангелии сказано, что нужно любить Бога и любить ближнего, но что это значит, можно понять только из контекста самого Евангелия — а там «положить свою душу» означает буквально смерть для мира. Тут у меня нет возражений. Но нельзя на основании любви к ближнему отказываться от аскетики, от постов и от мученичества. И особенно ценен тот подвиг, который продолжителен, хотя и небольшой – он гораздо ценнее, чем большой и непродолжительный.
Можно ли сказать, что христианство по сути своей героично, и если да, то в чем суть его героизма?
Конечно можно. Суть христианства в мученичестве, об этом четко говорит апостол Павел в Послании к Римлянам, и этот отрывок читается во время крещения: «все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились». Это участие в смерти Христа. Да, Христос нас избавляет от необходимости такой же смерти как у животных, но если мы выбираем путь Христа, то мы выбираем добровольную смерть. Поэтому нормой христианской жизни является мученичество. Практически это не всегда проявляется в том, что кого-то замучали, но существует внутреннее мученичество, христианская аскетика, которая с самого начала определяла себя как бескровное мученичество. Безумные люди пытаются крестить своих детей для того, чтобы они жили хорошо, то есть жили не по-христиански, были здоровенькими, например. Христианство существует не для того, чтобы помочь людям жить с их проблемами, оно для того, чтобы убрать эти проблемы и создать совершенно другие. В то же время для тех, кто не становится христианами — по крайней мере, всерьез — христианство предлагает большой по площади карантин, куда много людей может уместиться. Там им дают всякие игрушки, помогают жить житейской жизнью, но все равно хотят, чтобы люди стремились в сторону христианства и по возможности выходили из этой жизни именно в христианскую.
Но такой внутренний героизм не доступен внешнему наблюдению, а мы привыкли к социальности героизма: скажем, у античных героев всегда есть аудитория, иначе и быть не может. Христианский героизм иной?
Мир создает нам искушения, а где есть невидимая брань, там есть и героизм. Бесы видят, ангелы видят, поэтому вот вам и аудитория, пожалуйста. А то, что люди это видят или не видят, вообще никого не волнует.
Есть ли в современности какая-нибудь нерелигиозная фигура, которую вы могли бы назвать героем сопротивления миру?
Нильс Бор, он меня подготовил к принятию православия.
Как?
Он просто сопротивлялся всему вообще. После того, как Бор выступил с квантовым постулатом в 1913 году, он, конечно, записал себя во фрики. Он предложил объяснение, которое выходило за пределы не то что физической картины мира того времени, но даже представления о том, что дважды два четыре. Электрон переходит с орбиты на орбиту (я объясняю квантовый постулат, а не более позднюю квантовую механику того же Бора), не оказываясь нигде в промежутке. Просто переходит. Это дважды два пять, и надо было иметь смелость, чтобы такое сказать. И дальше Бор идеально держался. Он понял общефилософские последствия своего открытия, и я его считаю главным философом XX века, хотя профессиональным философом он никогда не был. Просто до него философия все еще не доросла. Бор чувствовал, например, что нельзя поддерживать ни одну из политических сил, не был коммунистом, и, несмотря на уговоры своего ближайшего ученика, Гейзенберга, понимал, что и немцев нельзя поддерживать… Он светский подвижник и вдохновляющий пример для меня с самого детства. Именно Нильс Бор меня приготовил к принятию Григория Паламы — его схема мышления, основанная на квантовом постулате.
Что может стать отправной точкой для начала внутреннего сопротивления миру?
Что угодно. Например, у тебя чешется за ухом, а ты не чешешь, вот это может стать. Нет ничего более или менее важного. Все будет важным только в зависимости от того, как ты воспринимаешь реальность в данный момент.