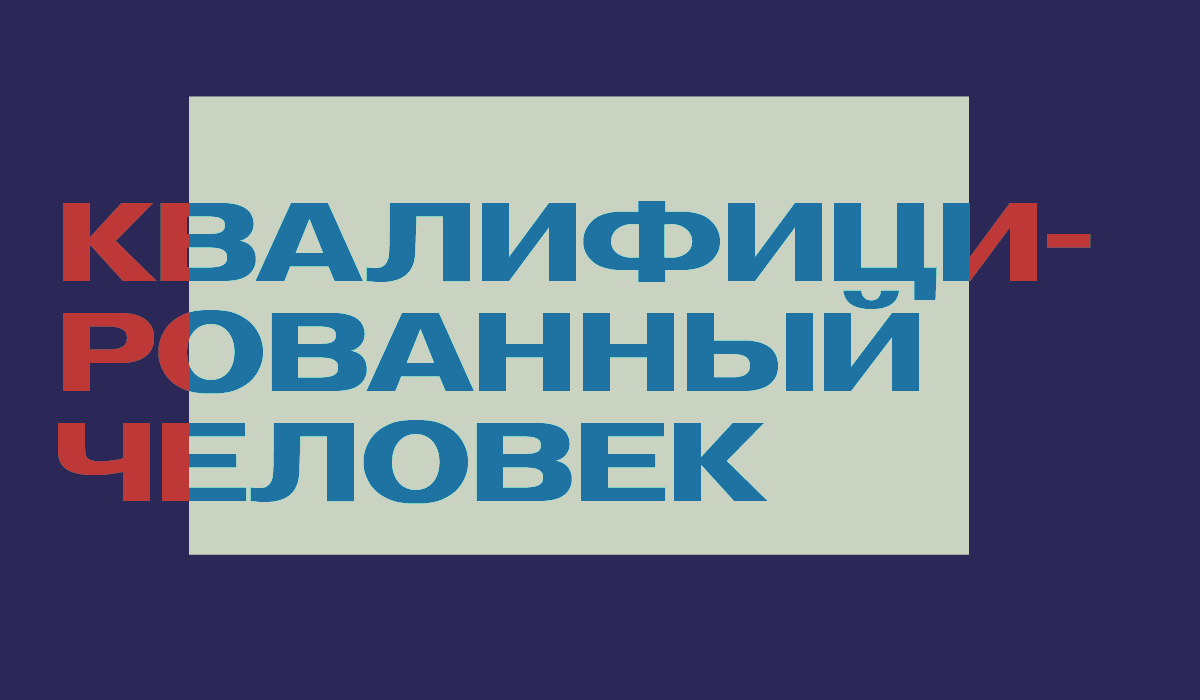
Если сегодня кто-то пытается выдать свои скромные прозрения за радикальные эксперименты, это вызывает в лучшем случае сочувственную улыбку, в худшем — брезгливое презрение, но в начале прошлого века дело обстояло совершенно иначе. Деятели и теоретики искусства в то благословенное время и вправду нередко горели огнем священного безумия и придумывали такое, от чего становилось тошно чертям в аду. О подвижничестве этих героев по сей день известно далеко не все и не всем, и к их числу безо всяких оговорок относится искусствовед-производственник Борис Арватов, друг Маяковского и Эйзенштейна, энтузиаст и революционер, грезивший о мире, в котором художники перестанут изображать действительность и начнут творить ее, отбросив все традиционные модели и приемы, сделавшись инженерами жизни и человеческих душ. По просьбе КРОТа Александра Воробьева, уже писавшая для нас о Николае Евреинове, рассказывает об одном из самых безумных арватовских проектов: придуманном им театре будущего, в котором не будет актеров, режиссеров, пьес, игры и сцены, а на их месте возникнет фабрика по производству квалифицированного человека.
Человек из ниоткуда
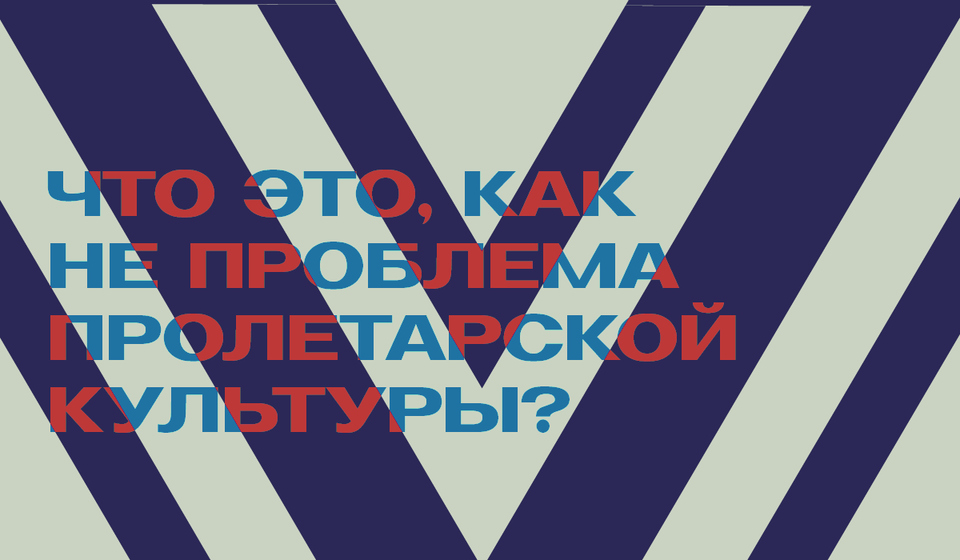


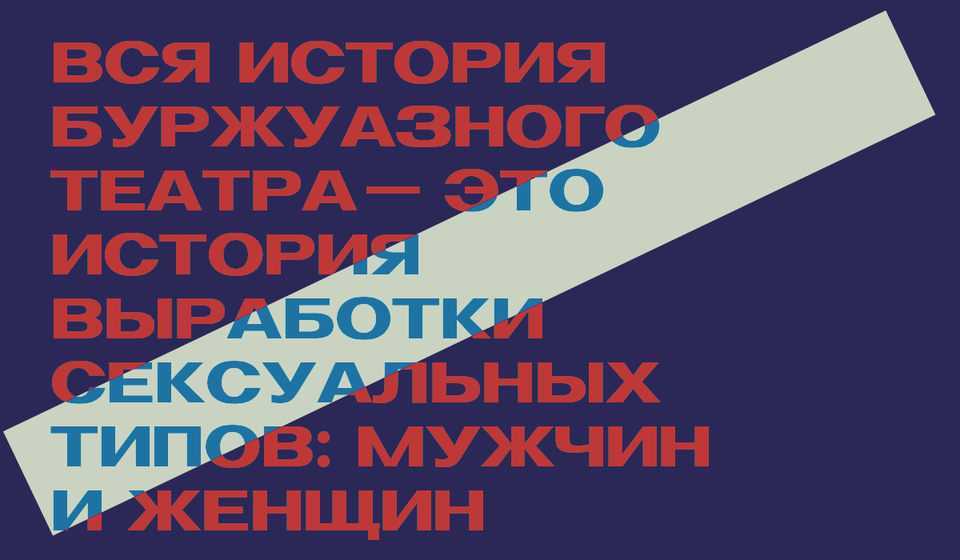
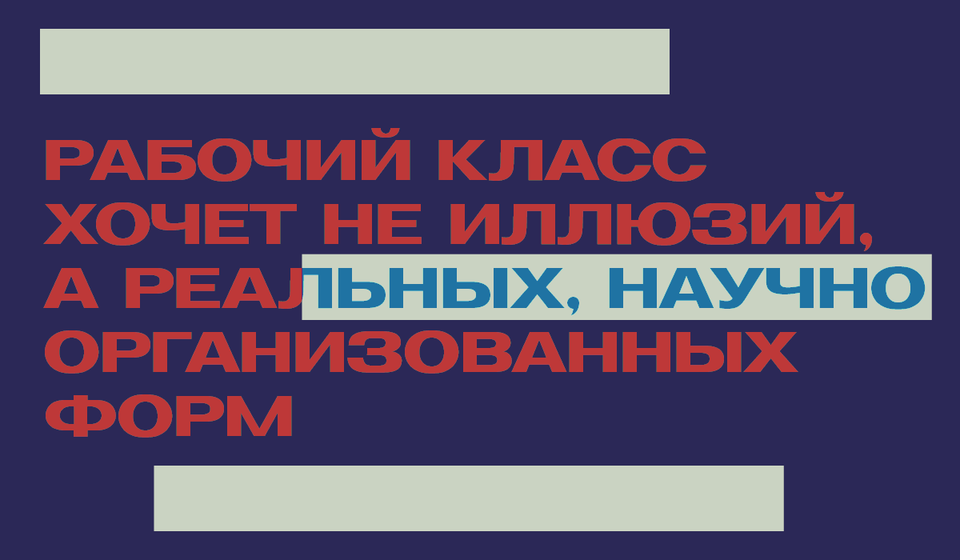
Кто такой Борис Игнатьевич Арватов и почему он стал теоретиком театра, точно неизвестно. Общепринятой версии арватовской биографии пока нет. Родился в 1890-х не то в Польше, не то на Украине, не то в Литве. Кажется, в юности занимался литературой. Возможно, имел математическое образование. Скорее всего, участвовал в советско-польской войне, был красным комиссаром. Вероятно, получил на фронте контузию и страдал нервным заболеванием, из-за которого оказывался в психиатрической лечебнице и в конце концов покончил с собой в 1940 году.
Почти все, что мы знаем об Арватове, известно из его текстов — статей, монографий, стенограмм выступлений. Арватов относится к числу тех, кто после революции был левее левых: он — один из теоретиков ЛЕФа и идеологов Пролеткульта. Пролеткультовцы в 1920-х стремились создать новую культуру для нового мира, культуру пролетарскую, не связанную генетически с художественным наследием буржуазного и аристократического прошлого.
В основу пролеткультовских взглядов легла философия Александра Богданова, влиятельнейшего русского революционера-марксиста: одно время он входил в число первых лиц РСДРП, но в конфликте с Лениным проиграл, отошел на вторые роли и перестал заниматься политикой. Богданов ставил во главу угла принцип организации: идеология с его точки зрения — это «система организующих форм производства, иначе говоря — организационных орудий общественного бытия людей», она придает форму как индивидуальному сознанию, так и жизни общества в целом. Поэтому он считал первостепенной задачей создание собственно пролетарской идеологии: капиталистическое общество развивается вслепую, повинуясь хаосу рыночных отношений, но строители социализма должны взять все организационные функции в свои руки и покончить с хаосом, создав новую культуру и отформатировав с ее помощью людей и общество. Конечно, Богданов не был идиотом и не считал, что безграмотные вирши рабочих лучше произведений Шекспира, но он смотрел в будущее и настаивал на том, что пролетариат должен «направить свои усилия к овладению своими организационными орудиями и к планомерной их выработке в полном масштабе задачи. Это — его программа культуры». Из утопической богдановской прагматики, доведенной до логического предела, и выросли в итоге радикальные даже для своего времени производственнические взгляды Арватова на искусство. Полностью отрицая традиционную станковую живопись и тому подобное, он призывал к полному слиянию искусства с жизнью. Художник, с точки зрения Арватова, должен был сделаться не изобразителем и украшателем, а организатором производства и быта, инженером, который придумывает все новые и новые формы и придает их жизни во всех ее проявлениях.
В советской печати Борис Арватов появляется в начале 1920-х как ультралевый критик, много пишет для пролеткультовских журналов. Его занимают вопросы о том, чем социалистическое искусство будущего будет отличаться от дореволюционного капиталистического. Свои взгляды и взгляды единомышленников по левому фронту Арватов защищает в агит-стиле, с комиссарскими лозунгами и запальчивостью.
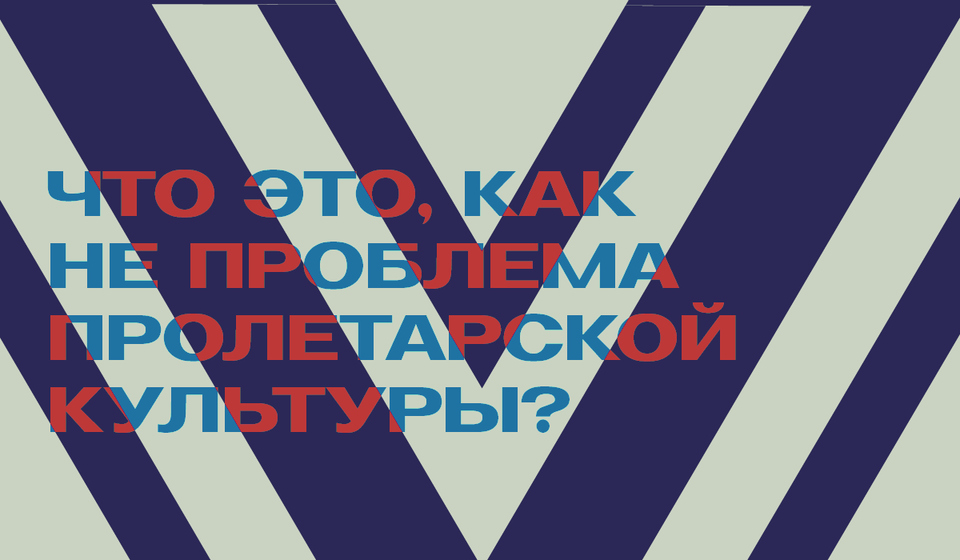
Когда именно Арватов заинтересовался театром, неясно. Почему его увлек театр — тоже. Теоретик театра — именно теоретик, не историк, не критик, не театровед — явление довольно редкое. Концептуальное осмысление законов театра обычно невозможно без практики — и, видимо, точкой отсчета для театральных теорий Арватова стало его участие в организации московской театральной студии и Первого рабочего театра Пролеткульта. Основной корпус своих текстов о театре он создал в 1922-1923 годы, во время совместной работы в Театре Пролеткульта с Сергеем Эйзенштейном, тогда еще учившимся в мастерских Всеволода Мейерхольда и ставившим спектакли. Арватова всегда в первую очередь волновали проблемы изобразительного искусства, в меньшей степени литературы, но в эти годы он пытается переизобрести театр, а главная задача для него — разрушить грань между «театром» и «жизнью», между «реальностью в жизни» и «реальностью в искусстве».
Пролетарский театр против мимесиса
Отправная точка теоретических построений Арватова — непоколебимая уверенность в том, что освободившийся в молодом государстве РСФСР от многовекового гнета рабочий класс обязан реорганизовать все области жизни, деформированной господствовавшим ранее капитализмом. Искусство — одна из таких областей: «Пролетариат призван убить эстетическое станковое искусство, призван создать новое искусство, — искусство реальной жизни, искусство по преимуществу не отражающее, а организующее».
В своей теории искусства Борис Арватов отстаивал простую, но непредсказуемо развивавшуюся идею. Он считал, что «старое» станковое искусство создавалось художниками-индивидуалистами, чтобы потешить вкусы буржуа или порадовать самого художника, и было оторвано от жизни — поэтому «новое» искусство должно стать делом общественным и приносить членам этого общества реальную пользу. Отвечая на вопрос о том, как связать «два таких разнородных, по-видимому, явления» — искусство и жизнь — Арватов, как уже говорилось, предлагал сделать искусство производством. Производством чего? Новых форм жизни, от которой искусство в капиталистическом обществе было столь долго оторвано. А чтобы производить эти новые формы, художник должен заняться организацией человеческого быта, отринуть «украшения, прикладничество и субъективизм вкусов».
«Меня не любят вещи», — жаловался главный «лишний человек» эпохи строительства социализма, Николай Кавалеров из «Зависти» Юрия Олеши. Неизвестно, любили ли вещи Бориса Арватова, но он их точно любил и был к ним необычайно внимателен. Арватову было жалко металла и камня, природу которых «буржуазные» художники насиловали, придавая им изящные формы, жалко ножек столов, которые сгибали в невероятные дуги в угоду вкусам эпохи рококо, жалко спрятанных под стекло ваз и безделушек — он считал, что такой подход «убивает» вещь, предоставляя ей возможность существовать только в качестве «голой зрительной формы». В своих литературоведческих работах Арватов часто составлял списки предметов, которые упоминает в произведении автор, потому что «мир вещей наиболее, пожалуй, показателен для личности». Вслед за освобождением человека от произвола капитала Арватов предлагал дать амнистию и вещам. Производство таких «свободных», естественных и функциональных вещей, по мнению теоретика, должно было стать одной из задач художника в процессе творческой организации нового быта.
Ответ на вопрос о том, как сблизить с жизнью такое не производящее предметов-произведений искусство, как театр, у Бориса Арватова выходил несколько сложнее. Он хорошо понимал, что «театр есть организация действия», «театр и есть непосредственное действие». При этом пролетарский театр будущего, считал он, не может не стать орудием пересоздания быта. Пришло время «действительного прыжка из театра в жизнь».
«Товарищи режиссеры! — призывает Арватов. — Бросьте сцены, подмостки и спектакли. Идите в жизнь переучиваться и учиться. Усваивайте не эстетические методы, а методы общежизненного, социального строительства. Будьте инженерами, монтажерами быта». Ведь «радость жизни придет только тогда, когда законы жизни станут законами искусства, когда художник примет реальность и сольется с нею».
Лозунги Арватова звучат сильно, и направлены они против мимесиса — «подражания жизни», краеугольного камня классической театральной эстетики. «Рабочий класс хочет не иллюзий, а реальных, научно организованных форм», — пишет Арватов, — «ему нужно не подражание жизни, а строительство жизни».
Как ни странно, эти программные заявления не голословны, они связаны с определенного рода театральными практиками. Может показаться, что Арватов хочет уничтожить театр как род искусства в принципе — но это не совсем так. В отличие от многих коллег по тому же Пролеткульту, он понимает природу театра и говорит в первую очередь о новом применении уже существующих театральных наработок.
Итак, как построить пролетарский театр будущего по Арватову?
Во-первых, нужно отказаться «на театре» от повествовательности, от литературы, сюжета и пьесы, от каких бы то ни было стилизаций и «чистого искусства». Строить жизнь можно только из реального материала, «очищенного от чуждых ему, насилующих и затемняющих его реальные свойства эстетических оболочек». К тому же театр — это организация действия, а действие — само себе сюжет. Недаром Арватов с симпатией отзывается о Мейерхольде, переделывающем пьесы под нужды своих «театральных конструкций» по законам сценического действия. Арватову также очень нравятся цирк и кабаре — потому что в них на зрителя непосредственно воздействуют трюки и квалифицированные специалисты, их исполняющие, а не придуманные каким-нибудь Метерлинком фантастические существа в собранном из пыльных тряпок Царстве ночи.

Во-вторых, нужно помнить, что реальность и реализм — разные вещи. Зачем подражать жизни и воспроизводить ее в нынешнем неорганизованном виде на сцене, если жизнь нужно перепридумывать, пересоздавать? Конечно, «в хорошем марксистском обществе принято за правило хорошего тона считать театр отражением жизни», но требование «жизненной правды» в реалистическом театре «убивает фантазию и превращает активного и свободного строителя в импотента».
В-третьих, нужно усвоить, что «материалом театра является действующий человек». Не актер, поскольку актер — «только эстетическая форма», существующая в условных обстоятельствах, и уж тем более не вымышленный персонаж спектакля, которого играет актер. Никаких масок и перевоплощений! Поэтому Арватов приветствует биомеханику того же Мейерхольда — систему сценического движения, изучающую связь между физической и психологической реакцией человека: «био-механика впервые пробует учить тому, чему должен учиться каждый человек, если он хочет быть квалифицированным членом общества».
В-четвертых, режиссера из «художника-творца» нужно превратить в «церемониймейстера труда и быта».
В-пятых, нельзя забывать, что пролетарский производственный театр — это театр современный, театр социально-ориентированный. В нем нужно «исходить не от готовых форм, а от сознательных задач», стоящих в данный момент перед обществом. Такой театр должен «эволюционировать нога в ногу с жизнью». «Формы действия» этого театра должны «соответствовать задачам пролетариата, как бы ни менялись, как бы ни были разнообразны эти задачи».
В-шестых, в театре нужно активно использовать технологии: ведь «жизнь приносит с собой в театр не только свои действенные приемы, но и свою современную технику: кино, машины, электричество, лифт, аэроплан». Использование этих технологий — важный шаг в деле «ожизнения» театра, а из такого «ожизненного» театра уже проще будет «перейти в саму жизнь».
Ангелы революции
Сломать рай, научить людей летать на личных крыльях — «воздушных велосипедах», придумать язык для общения с инопланетными цивилизациями — кажется, для граждан молодого государства РФСФР в 1920-е не было ничего невозможного. Уровень смелости и безумия раннесоветских утопий во многом определялся тем, что строительство нового мира и воспитание нового человека начиналось в условиях постапокалипсиса. В 1922 году закончилась гражданская война, революция победила — но после военного коммунизма повседневная жизнь в буквальном смысле проходила на обломках мира старого, физически разрушенного. «Может, и социализм уже где-нибудь нечаянно получился, потому что людям некуда деться, как только сложиться вместе от страха бедствий и для усилия нужды», — размышляют, например, едва опомнившиеся от войны в своем провинциальном городке герои платоновского «Чевенгура».
Уничтоженную социальную реальность люди, совсем недавно узнавшие о грядущем коммунизме и смутно его себе представлявшие, часто заполняли почти психоделическими грезами о грядущем всечеловеческом счастье. Эти мечты росли из хаоса и бедности, фронтового адреналина и боевой петроградской привычки к прямым действиям. Самые эксцентричные идеи преобразования жизни становились возможными — если случился Октябрь, то и светлое будущее романтикам революции казалось неминуемым.
Так, как рассуждал об искусстве Борис Арватов, мог бы рассуждать кто-нибудь из героев того же Платонова. Его тексты об искусстве во многом наивны, однако в них чувствуется художественная интуиция. Он не получил такого образования, как, например, формалисты, но упрощенный марксистский лексикон помогает Арватову сформулировать довольно сложные идеи. Главная из них, как уже говорилось, — искусство должно быть приравнено к производству.
Искусство в 1920-е тоже следовало законам революции и участвовало в социалистическом строительстве. В обновленном обществе многие художники ставили перед собой нетривиальную цель — заново придумать, как человеку жить. Для этого они часто решали вполне утилитарные задачи, вроде оформления книг и обустройства жилища, и неслучайно символами советского авангарда стали в первую очередь дизайн и конструктивистская архитектура.
Арватов и его единомышленники были лишь одной из многочисленных групп, обсуждавших концепцию производственного искусства, но эти дискуссии мы пока оставим за скобками и попробуем разобраться с тем, как параллельно с конструктивистскими проектами фабрик-кухонь у Бориса Арватова возникла идея фабрик-театров для производства квалифицированного человека.
Театр как фабрика для производства квалифицированного человека и нового быта
Арватов считал, что грядущий пролетарский театр станет «трибуной творческих форм реальной действительности; он будет строить образцы быта и модели людей; он превратится в сплошную лабораторию новой общественности, а материалом его станет любое отправление социальных функций».
Идеолога пролетарского театра беспокоило то, что в современном обществе «люди не умеют говорить, гулять, садиться, лежать, устраивать обстановку, вести общественные дела, принимать гостей и ходить на похороны, что «не мы владеем бытом, а быт владеет нами, — владеет своей стихийностью, дезорганизованностью», что мы «барахтаемся в быте, как лягушки в болоте, и как лягушки квакаем, если пойдет дождь». Театр, по мнению Арватова, является «изобразительно-художественной лабораторией быта»: там учат «и говорить, и лежать, и ходить в гости», там «строят вещи и организуют формы». Почему-то Арватов был уверен в том, что «новые формы быта, возникая в гуще жизни под воздействием социально-исторической эволюции, получают свою первую осознанную, организованную, хотя и узко-эстетически, кристаллизацию сначала на театре, а затем уже снова проникают в повседневный быт».

Еще одно наблюдение Арватова насчет «производственных» задач театра было такое: сцена часто становится для людей, перенимающих повадки актеров, актрис и их героев, «школой поведения». «Вся история буржуазного театра, — пишет Арватов, — это история выработки сексуальных типов: мужчин и женщин. Актер, как квалифицированный мужчина, и актриса, как квалифицированная женщина, — вот, собственно, кого воспитывает буржуазный театр». Пролетарский театр решает похожие задачи — но учит освобожденных людей жить по-новому и работает в индустриальных масштабах: «Наше время принадлежит заводу, фабрике. Фабрикой должен неминуемо стать и театр. Его задачей станет создание «квалифицированного человека», а сырьем для него послужит весь тот материал тел и голосов, который изуродован социальной машиной капитализма».
Маленький театральный октябрь
В 1918 году в газете «Известия» предлагали передать Шаляпина «в собственность общества», поскольку Шаляпин — «гениальная в художественном отношении личность», а «сам в себе не находит внутреннего требования такой социализации по своему убеждению». Театральное дело в молодой советской стране реорганизовывали с азартом и всеми свойственными романтикам революции крайностями. Бывший петербургский денди Всеволод Мейерхольд в солдатской шинели, фуражке с красной звездой и обмотках, например, ненадолго возглавил ТЕО — Театральный отдел при Наркомате народного просвещения под руководством Луначарского. Получив эту должность, режиссер немедленно развернул программу реформирования и политизации театра под названием «Театральный Октябрь»: предложил упразднить старые «буржуазные» театры и создавать новые в целях «искания форм для вулканирующего содержания современности». В духе Гражданской войны Мейерхольд пытался:
— учредить в каждом театре военную комендатуру (приказ режиссера отменили ровно на следующий день после его издания);
— отбирать реквизит у старых академтеатров и отправлять его в провинцию (к бурному возмущению профессионального сообщества);
— входные билеты в театр заменить жетонами и раздавать их пролетариату и красноармейцам (нуждались ли они в этих жетонах — неизвестно).
Ценивший Мейерхольда Луначарский вскоре схватился за голову, при реорганизации Театрального отдела лишил его административных функций, и режиссеру пришлось заняться непосредственным воплощением своих идей в созданном им «Театре РСФСР-1».
Тем не менее на рубеже 1910-х и 1920-х годов советскую Россию захлестнул, по выражению Мейерхольда, «психоз театрализации». К 1920 году театров, подведомственных ТЕО, набралось уже больше полутора тысяч (на них тратилась прорва бюджетных средств), а студий, драмкружков и клубов в Красной армии, при заводах и т.д. наоткрывалось просто без счета. Свои театральные студии были и у Пролеткульта.
Борис Арватов: «массовый театр» и театр масс
1. Проз-театр при ВСНХ
2. Реклам-группа при Главсиликате
3. Агит-труппа при МК ВКП
4. Пропаг-интерн-труппа при Наркоминделе
5. Информ-труппа при Роста
6. Тефизкульт при Спортинтерне
7. Театр агит-детективов при ГПУ
8. Театр быта при Пролеткульте
9. ……………………………….
Это список советских театральных коллективов будущего (то есть 1930-х годов), набросанный Борисом Арватовым в 1923 году. В то время он предполагал, что театр «как особая независимая специальность» исчезнет. Художественный процесс, как и общественная жизнь, будет коллективизирован — люди перейдут «от индивидуального производства на неопределенного потребителя к коллективному производству на конкретного потребителя, с конкретными, точно фиксированными задачами». При этом создание «массового театра», в котором будут участвовать непрофессионалы, вовлеченные в коллективное творчество, в начале 1920-х представлялось Арватову преждевременным. Несмотря на то, что рабочие уже начали изучать театральное дело в тех же студиях Пролеткульта, Арватов протестовал против попыток вовлечь их в популярные в начале 1920-х «соборные» театральные действа и групповые импровизации: он заявлял, что для участия в них рабочим пока не хватает опыта, а это ведет к «дилетантизму, поверхностности и скороспелому верхоглядничеству». Любопытно, что эта реплика была реакцией не только на идеи поэта Вячеслава Иванова, преподававшего в то время в студиях Пролеткульта, но и на практики некоторых соратников Арватова.
Театральные практики Пролеткульта
Помимо Арватова были, конечно, и другие теоретики пролетарского театра. Говоря об истории пролеткультовских театральных студий, чаще всего вспоминают Платона Лебедева (псевдоним — П. Керженцев), заведовавшего Театральным отделом Пролеткульта. Пролетарский театр, по мнению Лебедева, должен был «дать возможность пролетариату проявить свой собственный театральный инстинкт, дать ему широкое поле для творчества на подмостках». В театральные студии Пролеткульта по всей стране принимали рабочих, непрофессионалов — непрофессионализм студистов какое-то время был одной из ключевых идей пролетарского театра. Однако одновременно работать на заводе и заниматься в студии актерам будущих пролеттеатров оказалось не так-то просто, поэтому профессионализации театра пролеткультовцам избежать не удалось. Примечательно, что в это время в числе создателей нового пролетарского театра оказались вполне старорежимные педагоги, обучавшие студистов актерскому мастерству. В Москве, например, этим занимались актеры МХТ и бывший директор Императорских театров Сергей Волконский, преподававший сценическую речь.
Самодеятельные театральные кружки Пролеткульта действовали по всей стране. Самых способных кружковцев со временем отбирали в студии, где им платили стипендию и учили театральному делу; студисты часто играли для заводских коллективов. Со временем из студий Пролеткульта выросло несколько театров в Москве и Петрограде.
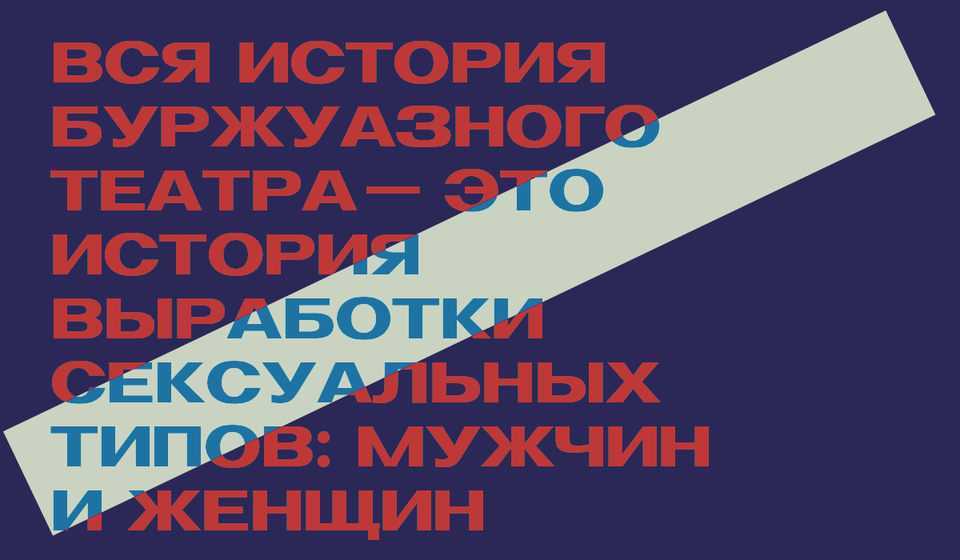
Студии Пролеткульта были очень разными. Петроградский пролетарский театр, например, начинался с массовых мистерий, которые с рабочими-студистами ставили Александр Мгебров и Виктория Чекан — пара актеров, познакомившихся когда-то в Старинном театре Николая Евреинова. Толпы в белых одеждах, аллегорически представляющие на сцене стихи Уолта Уитмена, босоногая танцовщица дункановской школы, исполняющая танец рвущей цепи Свободы перед краснофлотцами, сценические сумерки и алые световые завесы, экстаз — театр, который предлагали рабочим Мгеброва и Чекан, больше напоминал дискотеку сельских оккультистов, чем революционное действо, но в Пролеткульте они с переменным успехом занимались всем этим целых пять лет, с 1918 по 1923 год.
В московском Пролеткульте было повеселее. Пролетарский театр здесь тоже начинался со стихов. Например, под руководством Валентина Смышляева, актера МХТ и одного из первых деятелей пролеткультовского театра в Москве, около ста студистов придумывали этюды по стихотворению «Восстание» Верхарна с рефреном «Убивая — творить, обновлять!» Смышляев в новом пролетарском театре ценил массовые действа и тот самый преждевременный коллективизм, «соборность», против которой восставал Борис Арватов. Так что в московском Пролеткульте довольно быстро сформировалось крыло, интересовавшееся совсем другими театральными практиками — и одним из его лидеров стал стал Сергей Эйзентшейн, присоединившийся к Театру Пролеткульта в 1920 году.
Арватов и Эйзенштейн: агит-искусство и монтаж аттракционов
«Что левые всегда плюют в благочестивые души — это известно», — так начал Борис Арватов в 1923 году статью «Театральная парфюмерия и левое неприличие», которая вышла вскоре после громкой премьеры в Театре Пролеткульта, спектакля Эйзенштейна «На всякого мудреца довольно простоты».
Пьесу Островского Эйзенштейн поставил во многом по заветам Арватова — то есть использовал как материал для театрального действия. События пьесы перенесли в современность: Глумова и Мамаевых создатели спектакля отправили из советской России в эмиграцию, а персонажей модернизировали, представив в соответствии с актуальной повесткой 1920-х. Крутицкий, например, стал карикатурной версией французского маршала Жоффра, ратовавшего за военную интервенцию в РСФСР, Мамаев походил на Павла Милюкова, Голутвин представлял собой типичного «нэпача» и так далее. Само театральное действие подвергли модной в те годы процедуре «циркизации»: актеры в «Мудреце» были наряжены в фантастические клоунские костюмы, пели Вертинского и агит-куплеты, жонглировали, ходили по проволоке и съезжали по ней на трапеции, держась за трапецию зубами. Для спектакля Эйзенштейн снял свой первый короткометражный фильм, демонстрировавшийся по ходу действия зрителям. Фильм назывался «Дневник Глумова»: поскольку в пьесе Островского двигателем сюжета был дневник главного героя, то создатели спектакля создали его современный аналог по образцу «Киноправды» Дзиги Вертова, документальной хроники 1922 года в 23-х выпусках. Правда, уровень сюрреалистичности «Дневника Глумова» сближал его скорее с другим знаменитым «фильмом для театра» — «Антрактом» Рене Клера для дадаистского балета «Relâche», который Франсис Пикабиа поставит на музыку Эрика Сати спустя год после пролеткультовской премьеры в Москве.
Фильм Сергея Эйзенштейна «Дневник Глумова». В кадре — Сергей Эйзенштейн в кепке, клоуны, травести, превращение актера в пушку и осла, канкан со свастикой. Рекомендуем смотреть без звука: музыкальное сопровождение добавлено в ролик в наши дни.
В конце спектакля Эйзенштейна в зрительном зале, напоминавшем цирковую арену, производился «пиротехнический взрыв».
Борису Арватову «Мудрец» очень нравился. «Взят буржуазный быт и преподнесен в клоунадной сатире; вкусы, мораль, материальная культура, религиозный культ отшлепаны с весельем, достойным тех, кто выше такого быта. Взят традиционный сюжет и развернут в стремительный ураган действий, движений, трюков (монтаж аттракционов, по определению режиссера); вместо переживаний и стилизации, ставка на квалифицированного актера-человека в его воздействующей динамике. Что это, как не проблема пролетарской культуры?», — писал он в статье «Причем тут рабочий театр?» Циркизация театра, как уже говорилось, была для Арватова способом деконструкции мимесиса, приближением событий на сцене «к действительности», а вторжение на эту сцену «низких» жанров — одним из способов разрушения «храма» буржуазного «чистого» искусства.
В начале 1920-х театральные практики Пролеткульта в большинстве своем не приближали будущего, о котором мечтал Арватов. Чаемого сближения искусства с жизнью в них не наблюдалось, зато налицо был театр «соборно-мистериальный», который Арватова раздражал, и вполне традиционный театр, «реалистически-изобразительный», отвергнутый идеологом фабрики квалифицированных людей в первых же манифестах («Использование сценической площадки для иллюстрации пролетарских идей так же похоже на создание пролетарского театра, как проститутка на возлюбленную»). После знакомства с Сергеем Эйзенштейном и совместной работы с ним над спектаклем «Мексиканец» (1921), ставшим для московского Пролеткульта большим прорывом, Арватов придумывает, как справиться с тем, что светлое театральное будущее не спешит наступать.
Вместе с Эйзенштейном Арватов разрабатывает программу занятий в режиссерских мастерских Пролеткульта, в которую входят следующие предметы, перечисленные в статье «Театр и производство» (1922): «теоретические — научная организация труда, рационализация движений в быту, психо-техника, теория монументальных композиций; практические («театрализация», но не эстетизация быта) — экспериментальная лаборатория кинетических конструкций (индивидуальных и коллективных) по выработанному трехмерному графику, построение графика, импровизация кинетических конструкций, производственные задания композиции кинетических конструкций (заседание, банкет, трибунал, собрание, митинг, зрительный зал, спортивные выступления и состязания, клубные вечера, фойе, общественные столовые, гуляния, шествия, карнавалы, похороны, парады, демонстрации, летучки, избирательные кампании, заводской труд и т. д. и т. п».
В то же время Арватов устанавливает, что, по всем законам стадиального развития, театру необходим переходный период в движении от буржуазности к производственной коллективизации. Так возникает идея изобразительно-воздействующего театра — или, по-простому, агит-театра. На время, пока театр будущего еще не построен, «пролетариату необходим театр утилитарного изобразительства», решает Арватов: «Театр-плакат, театр призывов и побуждений, театр художественной агитации и пропаганды. Театр не камерных спектаклей, а клубных вечеров, рабочих гуляний, передвижных трупп, использующих весь технический опыт мюзик-холлов, цирков и балаганов, брошенных с закрытой сцены на улицы и площади городов».
Собственно, такой агит-театр в своем «Мудреце» и создает Сергей Эйзенштейн. В программном послесловии к спектаклю, знаменитой статье «Монтаж аттракционов», он прямо связывает свою работу с идеями Арватова. Театральная программа Пролеткульта, по мнению Эйзенштейна, — не в «использовании ценностей прошлого» или «изобретении новых форм театра», а в «упразднении самого института театра как такового с заменой его показательной станцией достижений в плане поднятия квалификации бытовой оборудованности масс». Для поднятия этой квалификации нужна организация мастерских и разработка научной системы — это важные задачи научного отдела Пролеткульта, — но сейчас тоже нужно что-то делать. Для этого вместе с Борисом Арватовым Эйзенштейн выдвигает линию «агитациoннo/аттракционного (динамического и эксцентрического)» театра, по которой работает с Передвижной труппой московского Пролеткульта. «Основной материал» для агит-театра Эйзенштейна — зритель, задача этого театра — «оформить» зрителя «в желаемой направленности (настроенности)», орудия «обработки» — «все составные части театрального аппарата». Всякий элемент этого аппарата, подвергающий зрителя чувственному или психологическому воздействию, Эйзенштейн называет «аттракционом». Выстраиванием последовательности этих аттракционов — «монтажом» — и занимается режиссер. «Школой монтажера» Эйзенштейн называет «кино и главным образом мюзик-холл и цирк, так как, в сущности говоря, сделать хороший (с формальной точки зрения) спектакль — это построить крепкую мюзик-холльную-цирковую программу, исходя от положений взятой в основу пьесы». На упреки в излишнем увлечении этими приемами, звучавшими в том числе со стороны Луначарского, Борис Арватов отвечает за всех пролеткультовцев: «Левые считаются со всеми такими формами «низкого» искусства, как с техническим материалом, могущим в руках пролетариата стать целесообразно использованным орудием общественной пропаганды». И добавляет, чтобы отбросить в сторону обвинения в вульгарности и «примазавшихся» нэпачей: «Левые должны повести борьбу: за физкультуру против «изюминки», за агит-холл против мюзик-холла».
Летом 1923 года после интенсивной и продолжительной работы у Бориса Арватова, по словам соратников-ЛЕФовцев, случилось «обострение нервного состояния», вынудившее его «поместиться» в психиатрической лечебнице. Неизвестно точно, сколько времени Арватов в ней провел и успел ли он после лечения продолжить свою театральную работу с Эйзенштейном — режиссер ушел из московского Театра Пролеткульта в декабре 1924-го. Вероятно, Арватов так и не увидел одну из его последних работ — спектакль «Противогазы», сыгранный на настоящем газовом заводе: сложно представить, чтобы такой образец проз-искусства не был описан в работах одного из главных теоретиков этого направления.
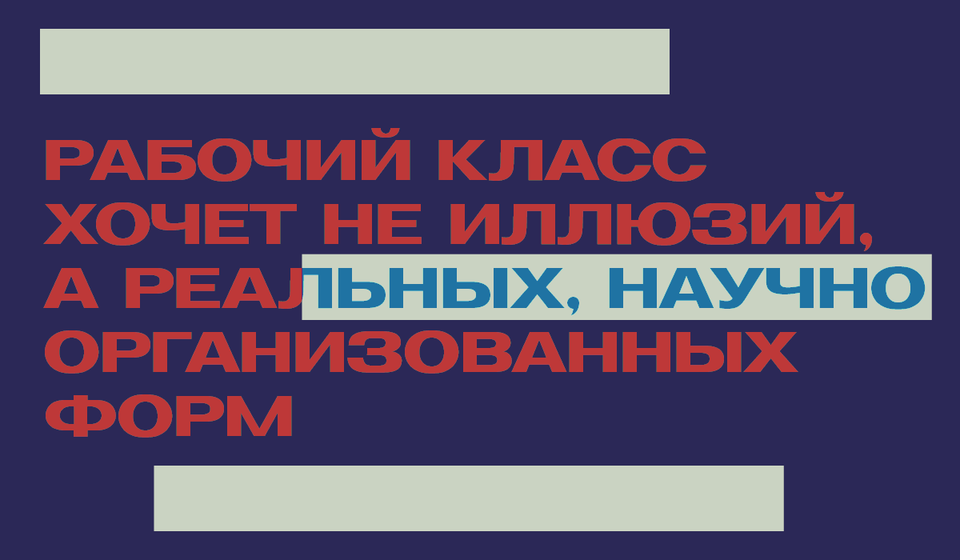
Так или иначе, активно писать о театре Арватов с 1923 года прекращает, сосредоточившись на более общих вопросах искусствоведения. В последний раз его концепция производственного театра появится в сборнике «Об агит- и проз-искусстве», изданном в 1930 году. Тексты, собранные вместе по следам разрозненных журнальных публикаций, выглядят пестрым, полным разночтений, но все-таки манифестом. Или посланием потомкам — которые, возможно, учтут опыт менее удачливых первопроходцев в деле строительства театра будущего.
В апреле того же 1930 года застрелится один из любимых героев Арватова — Маяковский. В 1932 году, к пятнадцатилетию Октябрьской революции, выйдет указ ЦК «О перестройке литературно-художественных организаций», Пролеткульт будет расформирован вместе с множеством других художественных групп, начнутся гонения на «попутчиков» и «формалистов». В 1934 году Первый съезд союза советских писателей в Москве утвердит догматы социалистического реализма. В 1937 году по обвинению в шпионаже расстреляют летчика Юрия Арватова, брата Бориса Арватова. В 1938 году закроют театр Всеволода Мейерхольда, самого режиссера год спустя арестуют, а его жену, Зинаиду Райх, убьют неизвестные. Мейерхольд и Арватов погибнут в 1940-м — один будет расстрелян, второй, согласно самой распространенной версии его биографии, наложит на себя руки.
В будущее возьмут не всё
Сегодня у некоторых идей Бориса Арватова есть вполне реальные параллели — в практиках социального, документального театра. Вряд ли создатель «Театра угнетенных» Аугусто Боаль читал сборник «Об агит- и проз-искусстве», но он тоже верил, что театр «может помочь нам построить будущее вместо того, чтобы просто его ждать». Социальный театр осознанно отходит от того, что Арватов мог бы назвать «эстетскими станковыми формами», и работает на территориях, еще недавно казавшихся максимально далекими от профессионального «искусства». Социальному театру интересны в первую очередь люди, зачастую из маргинализованных или стигматизированных сообществ — с ограниченными возможностями, бездомные, из домов престарелых или, наоборот, школьники. Вместе с деятелями социального театра они пишут пьесы, ставят спектакли и играют в них, рассказывают свои истории. Режиссеры в социальном театре близки к идеальным арватовским «инженерам и монтажерам быта», но все же иначе справляются с задачей «творческого преобразования самой жизни». Их проекты лишены того «социального масштаба», о котором грезил Арватов, а участники и зрители не обязаны превращаться в «квалифицированных людей» — но они получают важный опыт сотворчества, общения, участия в жизни друг друга, а значит, что-то все-таки преобразовывается.
Документальный театр тоже работает с «жизнью», с реальными человеческими историями — но как правило избегает перегибов с жизнеустроительным пафосом. Возможно, Арватова в наше время мог бы заинтересовать театр Rimini Protokoll, если бы он не счел его высокотехнологичные исследования социальной реальности слишком буржуазными. Неизвестно, понравился бы Арватову Театр.doc с его фирменным остранением документального материала и «ноль-позицией», не предполагающей авторской оценки представляемого на сцене документального материала — но гражданская проблематика, с которой работает «Док», наверняка не оставила бы этого человека равнодушным. Вероятно, ему были бы интересны и спектакли Всеволода Лисовского, в которых реальность и театр вступают между собой в парадоксальные отношения: спектаклем у Лисовского внезапно может стать что угодно — экспедиция на поезде в Курск, прогулка по Москве, чтение книги Бертрана Рассела о математике.
Среди опубликованных текстов Бориса Арватова сохранилось стихотворение «Любовь», посвященное «другу и товарищу А. А. Касаткиной». Как и многие герои своей эпохи, Арватов пишет стихи о космосе, в который переносит борьбу за счастье человечества: «На качелях солнц и планет / Нас в лицо целовали циклонные ветры — / Архитекторов будущих лет». Обращаясь в этом стихотворении к «другу и товарищу», Арватов заранее понимает, что их личные сражения за социалистические утопии — провальное дело, и утешает ее: «Ну так что же, что жилы порвутся, / Что не нам лавры венков...» Возможно, Арватова порадовало бы то, что театр в самых разных странах мира все-таки двинулся в будущее по описанной им траектории сближения с жизнью (хотя и пошел иным путем) — а значит, подвижничество романтиков революции действительно не было напрасным.