
Закапывание стоптанных башмаков — древнеуйгурский ритуал, цель которого — соединить мир живых с миром мертвых и не дать расползтись ветхой ткани времени. Чем-то похожим занимается и независимое издательство Common place, выпускающее книги мертвых для живых и книги живых для того, чтобы крепче стоять на ногах сегодня, через неделю, месяц и год. Иван и Петр Аксеновы, редакторы издательства, не любят общаться с журналистами, но ровно год назад они сделали исключение для Феликса Сандалова, главреда издательства Individuum, и газеты «Завтра», которая, однако, отказалась публиковать окончательную версию текста и отправила ее нам. КРОТ польщен. Публикуем присланный текст как есть, без каких-либо правок, дополнений или сокращений со своей стороны. С уважением, КРОТ.
Издательство Common place появилось шесть лет назад, и с самого начала этот волонтерский проект обходился без подчиненных, руководителей, инвестиций и четкого плана, а его участники почти не выступали публично и не давали интервью. Если в 2013 году издательство выпустило всего шесть небольших книг, то уже в 2018-м — почти полсотни, и в том числе воспоминания о Маяковском, монографию про коммунарское движение 1960-х, сборник «Чаадаев против национализма», мемуары акмовца Василия Кузьмина, посвященные политическому активизму нулевых, книги Бориса Успенского и Модеста Колерова. Кроме того, в прошлом году было запущено несколько новых книжных серий: отдельного упоминания заслуживает вызвавшая большой резонанс ретрофеминистская серия «Ѳ» под редакцией филолога Марии Нестеренко, в которой выходит художественная и мемуарная проза забытых русских писательниц XIX-XX веков. Первой книгой 2019 года стали «Диалоги убийц», опубликованные к десятилетию со дня гибели Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Интервью проиллюстрировано альтернативными версиями обложек вышедших в Common Place книг, авторства художницы Евгении Ставицкой.
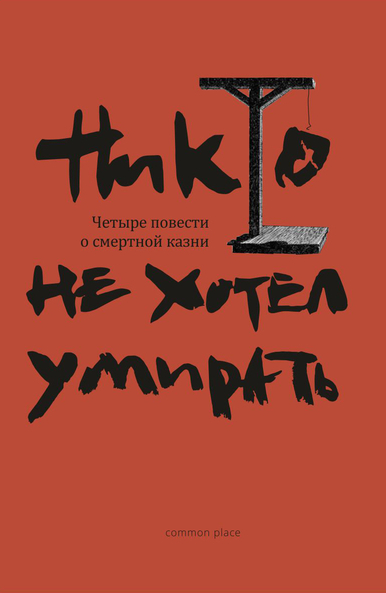
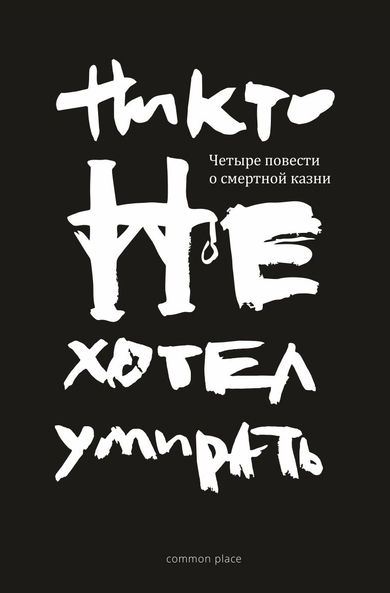
С чего все начиналось?
Иван: С троцкизма. Был DIY-проект Кирилла Медведева «Свободное марксистское издательство», я в нем участвовал: редактировал, посмотрел на разные стадии производства книжек, одну даже сам резал и клеил.
Что это была за книга?
Иван: Неплохая брошюрка Михаэля Леви, бразильско-французского троцкиста, про марксизм и национальный вопрос. Но в какой-то момент энтузиазм, как это часто бывает у левых активистов, кончился, и марксистское издательство стало затухать. Тогда я решил заняться книжками сам, немного позднее Петя подключился, и мы вместе запустили Common place. До этого я подготовил и издал чудесную книжку «Достоевский-экономист» нашего друга Гуидо Карпи, итальянского профессора-русиста — там про социально-экономические взгляды ФМ и его современников, а также про то, как они эти взгляды отразились в «Идиоте», «Карамазовых» и т.д. Гуидо очень хорошо знает русский, поэтому перевел текст сам, а я его отредактировал, нашел верстальщика, с типографией договорился. Еще несколько книжек было издано примерно таким же образом, а потом за дело взялся Петя.
Книга Карпи тогда неожиданно стала большим хитом.
Иван: Да, я в то время активно соцсетями занимался, за их счет и выстрелило, хотя со следующими книжками этот номер уже не прокатил. Я недавно только понял, в чем разница между раскруткой в соцсетях непонятного издательства и, скажем, журналов типа moloko+ или «Археология русской смерти»: пушить монопродукт довольно просто — на это у людей хватает времени, сил, эмоций и идей. Но когда так называемые эсэмэмщики пытаются продвигать книжки полноценного издательства, чаще всего выходит уныние, потому что даже если это люди сколько-то заинтересованные, когда им вникать в детали? Я и сам, например, большую часть наших нынешних книжек даже пролистать не успеваю толком, хотя мне надо их в соцсетях представлять как-то. Александр Терентьевич Иванов, руководитель «Ад Маргинем», не раз говорил, что разница между маленьким издательством и средним состоит в том, что редакторы маленького успевают прочесть все свои книги. Хуйня абсолютная полная, на мой взгляд, при всем уважении. Это же вообще невозможно, когда мне все это читать? У меня уже много месяцев стоит на видном месте изданная нами книжка Марии Михайловой про марксизм и русскую литературную критику, которая меня крайне интересует, но нету на нее времени пока. В сущности, прочитать удается только то, что сам готовишь к публикации.
Петр, а ты успеваешь читать?
Петр: Я почти все читаю за редким исключением, пока верстаю и потом, когда в качестве выпускающего редактора перечитываю макет.
Иван: Да, у нас разделение обязанностей: Петя книги читает, а я пишу к ним аннотации.
Петр: Мне доводилось запускать в производство книжки, которые я даже не открывал, — просто скан нашел и отдал его вычитывать.
Интуиция?
Петр: Жопой чую, да. Просто видишь, что все складывается, а читать потом во время верстки все равно придется.
Бывало такое, что в итоге ожидания не оправдывались?
Иван: Да, конечно, при существенных объемах чуйка неизбежно подводит. Вот поначалу у нас набор был безупречный, на мой взгляд, хотя выглядел абсолютно ебануто: средневековые романы, Олеся Герасименко, Георг Лукач и так далее.
У вас на начальном этапе вышло подряд несколько публицистических книжек, довольно сильных с точки зрения пиара и потенциальной аудитории. В бой шли авторы с именами: Костюченко, Пряников, Герасименко, Рейтер.
Иван: На самом деле погоды это, увы, не сделало. Аудитория таких книг — из соцсетей, это не книжники, а нередко и с коротковатой памятью люди. Хотя аудитория у Костюченко и Герасименко хорошая, спору нет, но в основном это не те, кто придет потом за другой книжкой твоего издательства. Они существуют по иным законам, не очень мне понятным, у них какие-то свои тусовки и приколы. Мы думаем книгами, а они, как мне кажется, думают постами в фейсбуке.
Каким вы задумывали издательство в самом начале?
Иван: Сперва это были книги, которые я когда-то давно начал придумывать. У меня в голове нормально обработанная и полезная информация часто сама собой превращается в книгу. Поэтому я всегда любил журнал «Новое литературное обозрение», например: он ведь состоит из хороших больших статей, то есть по сути из маленьких книжек. Думал я примерно так: в гуманитарной сфере мелькает довольно много важных вещей, которые теряются, — их нужно собирать и оформлять. Но при этом ясно, что одни издательства гонятся за модой, другие, наоборот, суперархаичные, а мы с Петей с самого начала думали, как бы нам двинуть от всего этого куда-то в сторону.
Вы сразу отсекли художественную литературу?
Иван: Художка сама себя отсекла. Она просто превратилась в клоунаду.
А архивная художка?
Иван: Архивная — да, конечно. Чем, например, отличается публикация текстов Святогора от монографии о Святогоре? Не вижу большой разницы. Выкапывание текстов из архивов, их подготовка к изданию — это типичная научно-исследовательская деятельность, и к досуговому чтению романов-лауреатов-премий все это никаким боком не относится. Если писатель уже умер (и желательно давно), то с ним почти наверняка можно иметь дело.
А что насчет поэзии?
Иван: Нам близки некоторые авторы — Емелин, Родионов, Немиров, — но к тому моменту, когда мы плотно занялись издательским делом, их акме уже пошло на спад. В прошлом году я с Емелиным сделал интервью о том, как он стал известным поэтом и перестал им быть (это его версия событий, не моя). Потом я сделал того же плана материал с Родионовым, и ему он не очень понравился: я старался уйти вглубь, узнать побольше об истоках его творчества — выяснил, например, что родионовская поэтика родилась из героиновых историй, которые рассказывались в его театральной красилке [Андрей Родионов много лет работал красильщиком тканей в одном из московских театров. — КРОТ], или понял, скажем, как много блоковского в стихах Андрея, при том что поверхностных сходств в общем не разглядеть. Но, по всей видимости, самому Родионову сейчас гораздо важнее текущий момент: культуртрегерство, работа для театра и т.п. В значимости всего это я не сомневаюсь, но «Синий эльф» и другие великие тексты Андрея были написаны в другую эпоху, и она безвозвратно ушла.
Еще мне довелось подготовить наиболее полное на сегодня собрание сочинений Александра Еременко, который родился в 1950-м, а к концу 1980-х был едва ли не известнее Пригова, его называли «королем поэтов». Он сам с Урала, человек со сложной авантюрной биографией, в свое время прославился, но в 1990-х он не пришелся ко двору — словно бы не резонировал с новой эпохой, почти перестал тогда писать и так далее. По сути, книжку Еременко я делал уже как архивную, хотя работал непосредственно с ним самим (Александр Викторович замечательный, дай ему бог здоровья). Мне кажется, связь Емелина и Родионова с нашим временем тоже несоразмерна их талантам. Но зато на короткой ноге с эпохой старший лейтенант Пидоренко В.П., и вот как раз он неплохо в нее вписывается.
Первые книжки вы делали полностью своими силами?
Петр: Мы и сейчас делаем все своими силами.
Но ведь это вы придумали ноу-хау с сетью волонтеров?
Петр: Использовали волшебную силу соцсетей, да.
Иван: Опыт ведения разных пабликов к этому подвел, было видно, что там есть какое-то количество толковых заинтересованных людей. Мы тогда несколько нахраписто провернули это дело — сначала запилили паблос со всякой гуманитарной побарденью, хорошей. Выкладывали туда лекции, книжки, смешное что-то, довольно быстро собрали аудиторию, а потом перепилили все это в паблик издательства и занялись делом.
Насколько, по-вашему, эта история диктовалась той атмосферой, которая была и в соцсетях, и в стране в те годы?
Петр: Издательство возникло в 2013 году, а перед этим гремели протесты — их главным двигателем, как мы помним, была непрерывная истерика в соцсетях. В твиттере все визжат, ты зачем-то этот визг воспринимаешь, затем подрываешься и делаешь вещи, которых в недалеком будущем ты станешь стыдиться, — тогда мы, конечно, не знали, что так будет. Кто-то на этой волне зарабатывал деньги и славу, кто-то занимался хуйней на совесть и от души. И логично, что рано или поздно кто-то в такой котел кинул не очень попсовую книжку «Достоевский-экономист» и сказал, что она самая модная, протестная и революционная. Это прокатило, люди пошли покупать, стали читать. Речь, разумеется, не о том, что их ловко обвели вокруг пальца (книжка-то ведь правда на редкость хорошая, по-прежнему всем ее рекомендуем), — речь о том, что ту же самую энергию можно было направить в другое русло.
А не было у вас чувства разочарования, когда случилось 6 мая и волшебная атмосфера праздника обернулась мыслями типа «куда меня занесло, что я здесь делаю...»?
Иван: Было ощущение, как Петя правильно сказал, что массовую истерию можно использовать в гуманитарных целях. С какого-то момента я осознал, что вопли в соцсетях — дело пустое и сиюминутное, но можно попробовать конвертнуть их в книги и что-то рассказать людям. То есть можно все это упорядочить, оформить, превратить в какую-то связную историю и по-другому подать. Так появились книжки Пряникова и Герасименко, и тогда же мы взялись за издания формата литературных памятников — средневековые рыцарские романы с научным аппаратом.
Они же вам перепали случайно, насколько я понимаю?
Иван: Не совсем так, это тоже результат определенной работы. О существовании Нины Владимировны Забабуровой, замечательного филолога и переводчицы из Ростова-на-Дону (ныне, увы, уже покойной, она скончалась в 2014-м), я узнал в 2004 году, когда читал большой том избранного Юлии Кристевой. В работе «Текст романа» Кристева скучнейше анализировала интертекстуальность на примере «Маленького Жана из Сентре» Антуана де ля Саля (1456) — это своего рода пострыцарский роман, сложный, известный разве что узким специалистам. Даже в хороших университетских курсах зарубежки он чаще всего даже не упоминается. Я давно таким увлекаюсь, поэтому полез гуглить и выяснил, что «Жан» на русский переведен Ниной Владимировной, но его так и не издали: он просто-напросто никому не нужен (даже «Литпамятникам», которым сам бог велел браться за такое). Кроме того, оказалось, что Забабурова со скрипом и мизерным тиражом выпустила в Ростове-на-Дону два романа Кретьена де Труа, великого средневекового французского романиста. Я сделал для себя пометку, и уже спустя каких-то лет девять мы издали «Ланселота» и «Персеваля» в нежно-розовой и нежно-голубой обложках, невольно расстроив тем самым золотую Нину Владимировну, которая предпочитала более традиционные издательские решения.
Петр: Мы все книжки в общем так и находим.
Иван: Да, извилистый поиск книг — наш метод, это как рытье на помойках в Жуковском: сложнямба, но можно озолотиться.



Но вы не боялись при этом жестко идеологически маркироваться — в первых книжках на последних страницах были призывы в поддержку Гаскарова.
Петр: Так в этом смысл и был. Первая книжка появилась в 2013 году, и уже тогда пошли посадки, людей начали забирать сразу после 6 мая. Примерно в то же время, когда вышел фильм «Анатомия протеста», стало ясно, что всех нас наебали, и пока узники Болотной не начали выходить, было дико стыдно за близость к той шумной компании, которая подставила невинных людей своим мелким бизнесом и бездумным пиздежом. Требовалось хоть как-то этих людей поддержать.
Тогда ведь была поляна маленьких левых издательств — «Свободное марксистское издательство», «Радикальная теория и практика» и так далее — как вы на ней себя чувствовали?
Иван: «Свободное марксистское издательство» стало своего рода испытательным полигоном, с «РТП» мы общались и помогали друг другу, но их анархистские книжки лично меня никогда не впечатляли.
Надоели рассуждения об анархии и консенсусе?
Иван: Меня активизм никогда не привлекал, потому что я люблю дома под покрывалкой лежать. Мне весь этот анархизм как шел, так и ехал. В политике я не вижу особых вариантов кроме парламента с преобладанием в нем партии ленинского типа. А так называемая прямая демократия со всей этой хуйней типа искусственного интеллекта — это просто смешно. Нужна нормальная социал-демократия, не розовая, а олдскульная, в исходном смысле этого слова, как было в конце XIX – начале XX века.
Петр, а ты что скажешь?
Петр: Связка «анархизм + Common place» — во многом моя работа, мне действительно в какой-то момент стало все это близко. Меня всегда привлекала идея автономии: у нас по отцовской линии донские казаки, и по обеим, отцовской и материнской, старообрядцы, то есть понятно более-менее, откуда ноги растут. Одной из ранних наших книжек стал сборник «Анархия работает», понятно чему посвященный — его готовил наш товарищ Евгений, один из наиболее важных участников нашего проекта, придумавший и собравший кучу оригинальных книжек. У него очень необычный и интересный взгляд на мир, но рассказывать за него о его предпочтениях и идеях не стоит (он заслуживает отдельного разговора). Так вот, он включил туда текст об автономной жизни на Дону, небольшой фрагмент из диссертации про казачье самоуправление. Много лет мечтаю переиздать этот дисер целиком, но так и не смог найти контакты исследовательницы, которая его написала (она с тех пор сменила несколько серьезных должностей, несколько фамилий и, кажется, к исторической науке отношения уже не имеет). Но осознанно на анархизм я вышел скорее через литературу — через Гамсуна, Фолкнера, деревенскую прозу. Ну и плюс еще мы воспитывались в советской постшестидесятнической семье.
Иван: Наш отец довольно серьезно занимался коммунитарной педагогикой. В том ее изводе, который мы застали, идея была такая: школы обучить детей нормально не могут, потому что система образования косная и тупая, воспитать настоящего социалистического субъекта она не в состоянии, а значит необходимо создавать автономные сообщества, которые будут детей самостоятельно воспитывать в соответствии с настоящими социалистическими и гуманистическими принципами. Отец жил этими утопическими идеями, воспитывая школьников-крестьян, и мы так или иначе восприняли от него те же принципы.
Петр: У папы настоящее утопическое мировоззрение. Он много лет проработал в школе учителем истории и рисования, а когда мы были еще совсем маленькие, он организовал в нашем колхозе ферму для необучаемых детей из класса коррекции. Учиться они не могли, поэтому отец забрал их из школы ухаживать за коровами. До сих пор помню его рассказ о том, как он впервые принимал роды у коровы. И учеников этих помню, многие выросли хорошими людьми.
Он Макаренко читал?
Петр: Конечно, Макаренко у нас в книжном шкафу на видном месте стоял всегда, он очень повлиял на отца. Да и на меня позже. И он, и Пантелеев.
То есть твои левые взгляды оттуда, а не из условного хардкора и антифашизма?
Петр: Да какой антифашизм, моим любимым писателем был Эрнст Юнгер. Я с черными копателями выбивал немецкие траншеи под Вязьмой, на футбол ходил, меня совершенно другие вещи интересовали. И еще, конечно, повлиял «Фаланстер», где мы вместе много лет проработали.
Иван: Я, например, только там понял, чем правое отличается от левого, серьезно. Впервые попав в «Фаланстер», я не мог понять, почему нормальные книги стоят рядом со всякой дикой хуйней: сперва Хайдеггер, Юнгер, а потом какие-нибудь там Эвола с Мигелем Серрано и Аленом де Бенуа — это что вообще? И Лукач с Альтюссером, разумеется, стоят совсем в другом углу. В институте такого не объясняли, интернета у меня тогда не было еще, и я поначалу тупо не всасывал, в чем прикол. Правда, для того, чтобы по-настоящему проникнуться левой идеей, мне пришлось начитаться книжек по теории литературы, как это ни смешно звучит, причем в основном англоязычных, типа Терри Иглтона и Фредрика Джеймисона.
А не случалось ли такого, что ваше гибкое левое мировоззрение неадекватно воспринималось со стороны? Условно говоря, не начинали приходить какие-нибудь антифашисты-хардкорщики с просьбой опубликовать туровый дневник их очередной группы?
Иван: Я антифашистов и анархистов чаще всего избегал, мне с ними неинтересно. А Петя, наоборот, прекрасно общий язык находил.
Петр: Есть известная книжка Петра Силаева «Исход» про антифашистов, субкультурная, конечно, но вообще ее стоит прочесть. Для меня она примерно в одном ряду стоит с «Колымскими рассказами» и фильмом «Шоа». Книжкой этой невозможно не проникнуться: быстро понимаешь, почему антифашисты такие, к чему стремятся и т.п. И если уж не любви, то симпатии они точно заслуживают.
Был ли у вас перед глазами пример какого-нибудь издательства, действующего на волонтерской основе?
Иван: Нет, волонтерская основа для нас — дело вынужденное. Так-то я предпочел бы делать издательство вроде «Нового литературного обозрения»: собрать как можно больше олдскульщиков и выпускать какие-нибудь страшнейшие тома по полторы тысячи страниц, которые никто не будет читать никогда в жизни. Но на это нужны большие деньги, и мы вынуждены исходить из своих возможностей.
Петр: Хотя наши возможности мы смогли здраво оценить сравнительно недавно — скажем, долго не могли решить, потянем ли вообще книжку объемом в пятьсот страниц. А насчет волонтеров показательно, например, что с начала 2016 года я верстаю все книги сам: это проще, быстрее и надежнее, чем обращаться к кому-то за помощью. При этом до 2016 года я верстать не умел.
Теперь, когда мы разобрались, что нам под силу, а что нет, мне хочется издавать бывших преподавателей из Литературного института и ненавистного МГУ, преимущественно уже неживых. Например, уже много лет мечтаю издать архив оригинальнейшего мгушного преподавателя, исследователя русского романтизма, который вел у нас семинар по литературе начала XIX века. Он ходил в одежде, которая выглядела так, будто уже не один год пролежала на упомянутой выше свалке в Жуковском, подъебывал любого, кто попадался на пути в коридоре факультетского этажа — другого преподавателя, студента, охранника или просто незнакомого человека. Короче, он выкатывал срал-ебал такого уровня, что нам и не снилось. Например, одному моему однокурснику, главному задроту (он делал ради хороших оценок все, что только возможно, и мыслил исключительно цифрами в зачетке), этот преподаватель постоянно предлагал отправиться в горный аул, где тот родился, поскольку там не хватает пастухов и работников на местном горнодобывающем заводе (причем он не гнал от балды, он изучил сперва проблемы этого самого аула и знал, о чем говорит). При всей дикости его выпадов, в этом всем невозможно было увидеть расизм, ксенофобию, сексизм и т.п., просто у человека был тонкий такой юмор.
Я прогулял почти все его семинары, но на одном из тех, что посетил, он задал всем остальным разбирать стихотворения Жуковского, а мне — прочесть роман Цвейга про Марию Антуанетту. Хотя до этого его задания я игнорировал, но роман прочел от начала до конца. Чтобы сообщить об этом преподавателю, я выписал из середины книги самый показательный фрагмент (тот, из-за которого, как мне показалось, он и заставил меня прочитать всю книгу), после чего сдал ему листы с выписанным текстом, оформив их так, будто это серьезное исследование. Речь там шла о том, что Мария Антуанетта, несмотря на некоторые свои достоинства, относилась ко всему легкомысленно, не доводила работу до конца и т.д., и именно ветреность в результате привела ее к гильотине. Через месяц или полтора я получил свою работу обратно, в ней была зачеркнута одна запятая (на самом деле она стояла на своем месте, я специально проверил!), красным карандашом была выведена оценка 4+, а также размашисто написано: «БРАВО, КАПРАЛ». До сих пор храню этот замечательный артефакт. Видимо, изначально посыл преподавателя был в том, что меня с моим характером и подходом к учебе ждет та же судьба, что и Марию Антуанетту. Однако после того, как я прочел пятьсот страниц ради одного абзаца (отличная, кстати, книга), то есть только для того, чтобы понять, чего же он такое удумал, преподаватель пришел к выводу, что на подобное способен лишь ебанат вроде него самого. С тех пор он меня не трогал, терроризировал остальных. Разумеется, я восхищаюсь не только его человеческими качествами (все правильно он делал), но и научными достижениями, поэтому с радостью издам сборник его трудов, если появится возможность.


Как все это с финансовой точки зрения работает, сильно ли затратно?
Иван: Поначалу мы пользовались офсетной печатью, там адекватная цена за экземпляр начиналась при печати тиража от тысячи штук, и всякий раз это была лотерея: продастся книга или нет.
Петр: А потом появились дешевые цифровые типографии, и мы начали экспериментировать. Помню, я метался как лосось, ездил на Рязанский проспект к каким-то странным людям, которые решили, что смогут на этом заработать, и тоже экспериментировали. Они напечатали нам «Ланселота» и Еременко очень дешево даже по тем временам, сейчас о таких ценах и мечтать нельзя, но зато каждый раз приходилось на своем горбу перевозить весь тираж, мы тогда никакими доставками или уберами еще не пользовались.
У вас сейчас сильно снизились издержки?
Петр: Они давно обратно увеличились, потому что печать и бумага все дорожают и дорожают, а наши предпочтения становятся все более причудливыми. Мы пока продолжаем печатать книжки короткими очередями, одну за другой, но в таком режиме вряд ли сможем долго сводить концы с концами (при том что на издательстве мы как не планировали ничего не зарабатывать, так и не зарабатываем). Вообще я не знаю ни одного независимого издательства, которое выживало бы своими силами, ни о какой самоокупаемости тут и речи идти не может. Мейджоры-то зарабатывают, да, они подстроили рынок под себя, вытаптывая все живое вокруг, но о них чего говорить — с ними и так все ясно. С другой стороны, издательства вроде нашего, существующие в связке с независимым книжным, — это теперь уже отдельная категория, у них своя жизнь и свои расчеты. Мы из нашего симбиоза с «Фаланстером» никогда особой тайны не делали, решили просто по ряду личных и концептуальных соображений два названия развести и не смешивать. А кому такое партнерство выгоднее, издательству или книжному, надо еще подумать, ведь расширившаяся со временем аудитория CP стала большей частью и аудиторией «Фаланстера», нашей основной розничной точки.
В какой-то момент пошла волна издательств, которые явно на вас держат равнение — «Смена», «Циолковский», «Все свободны». Что вы об этом думаете?
Иван: Все издательства при книжных пользуются моделью, зачатки которой возникли в «Фаланстере» еще в 2006 году. Спустя годы мы эту симбиотическую модель доработали путем многочисленных проб, ошибок, ругани, бессонных ночей, запоротых тиражей и т.п. В конце концов она показала свою эффективность, и вот тогда ее начали перенимать и активно использовать.
Наша исходная идея была простая: если у тебя есть место для сбыта, то производство лучше всего организовать там же, не отходя от кассы. Ведь сотрудник книжного по долгу службы ориентируется в ассортименте на рынке, он видит со стороны логику действий, находки и просчеты самых интересных независимых издательств, а еще наблюдает в прямом эфире за динамикой спроса и предложения. Все это само по себе уже немало, но еще важнее то, что связка «сбыт-производство» если не уничтожает, то дико сокращает и упрощает цепочку «поставщик-продавец». Думаю, про длинные, сложные и унылые продажи книжек типа наших давно уже всем все ясно, но для полноты картины, пожалуй, поясню в двух словах, какая тут проблема.
Когда маленький издатель сдает тираж своей сложнямбы оптовику, ему нередко приходится занижать отпускную цену (которая и так невелика относительно затрат), чтобы оптовик, который тоже не может заниматься благотворительностью, сделал свою наценку сколько-то ощутимой. Далее оптовику нужно раскидать книги по розничным магазинам, а уже там наценка на его, оптовика, цену доходит местами до сотни процентов, да еще и саму эту непонятную и дико дорогую книжку могут сунуть в пыльный угол, подальше от сраных Ювалей Харари и прочего саморазвития. Но даже если после этого книгу удастся каким-то чудом продать, издатель, все время нуждающийся в оборотном капитале, все равно будет ждать до ишачьей пасхи, пока участники этой цепочки, мало интересующиеся проблемами козявочных, наконец расстелятся и что-нибудь выплатят. Короче, чем меньше посредников и чем проще добраться до покупателя, тем дольше наш курилка продержится.
Примерно так мы смотрели на дело, и этот подход себя оправдал. А потом его стали мультиплицировать, каждый со своим колоритом: кто-то тоже рубится по козяве, кто-то за счет издательства становится более модным и более классным. А кто-то даже, смешно сказать, пытается подзаработать на этом всем символического капитала и проскочить в Мир Большой Литературной Хуйни — ладно, всякое конечно бывает, но я совершенно не понимаю, за что там сейчас рубиться, за матрас больного чумой что ли?
И уже совсем в сторону добавлю, что не стоит путать «издательство при книжном» и «книжный при издательстве». Самые характерные примеры — книжные магазины «Гилея» и «Ад Маргинем», но это совершенно другая история, нас не касающаяся. Собственно, этих некогда знаменитых книжных давно уже нет, а с издательствами все в порядке, и обзаводиться новыми торговыми точками схожего масштаба они не планируют.
Последнее, чем вы меня реально потрясли, — это Святогор. Я ездил в метро, читал и ржал настолько демонически, что люди оборачивались и таращились на меня.
Иван: Ты может просто мало хуеты читал полнейшей вообще?
Петр: Да у нас хватает вещей побезумнее, а Святогор как раз вписывается в архивно-академическую линию: умер почти сто лет назад, в книге собрано почти все, что он написал, присутствует отличный аппарат. Если уж безумное, то это скорее про книгу Олега Иванца, которая издавалась не столько ради основного ее содержания, сколько ради интервью и личности автора, который был анархистом, членом знаменитой «Конфедерации анархо-синдикалистов», потом подписался у бандитов отвечать за воровской общак, потом его убить хотели, и он сел в тюрьму, чтобы не убили. Отсидел, освободился, а спустя полтора года после выхода книги сел еще раз, на этот раз за вымогательство. Большая часть его книги при этом посвящена феномену экспроприации в истории России.
Иван: Если смотреть на Блока через школьный учебник литературы, то все ок, но если присмотреться внимательнее к нему, к Есенину, к самым мейнстримным фигурам Серебряного века, то они все, думаю, покажутся не менее поехавшими. Если чуть поглубже копнуть — например, Сологуба — там вообще пиздец полный, его ведь многие современники колдуном считали. Ну или хотя бы «Творимую легенду» почитайте, чудесный роман, как сейчас помню: «Медленно открылся бедный гробик». [Целиком абзац, начинающийся с этого предложения, выглядит так: «Медленно открылся бедный гробик. Явствен стал тихий стон. Уже в глубине могилы были мальчики. Наклонились к бедному маленькому гробу. Еще землею полузасыпан был гроб, но уже мальчики чувствовали под ногами дрожание его крышки. Крышка, забитая гвоздями, легко поддалась усилиям маленьких детских рук и отвалилась на сторону, к земляному боку могилы. Гроб раскрылся так же просто, как открывается всякий дом». — КРОТ]. А потом уже начинаются наши любимые Святогор, Тиняков, Пимен Карпов и другие замечательные литераторы, на которых клейма ставить негде.
Почему вы решили Святогора издать, откуда вы о нем узнали?
Петр: Ничего не знали о нем до письма Жени Кучинова, философа из Нижнего Новгорода, который и предложил издать книжку. Откуда он сам узнал, можно догадаться: видимо из гройсовско-адмаргинемовской антологии «Русский космизм» (там есть статья Святогора). Вообще не так важно, откуда ноги растут, суть в другом: Кучинов взялся, сел и подготовил рукопись от начала до конца, не волындил, как многие делают, ну и мы со своей стороны потом что нужно устроили. Очень приятное сотрудничество, полное взаимопонимание.
Иван: Это кротовые норы, которые мы роем.
Петр: Причем зарывание вглубь не помешало нам буквально месяц назад вернуться к старой журналистской серии — договорились издать сборник статей Лены Рачевой, журналистки «Новой газеты». Например, у нее есть текст о том, как волки захватывают вымирающие деревни под Псковом: ощущение тревоги и безысходности, возникающее при чтении, вполне созвучно, на мой взгляд, духу нашего времени. Или, скажем, недавно у нас вышел «Предел скорби», сборник произведений Вацлава Серошевского, польско-российского этнографа и писателя. Эти тексты, написанные больше ста лет назад, повествуют о жизни коренных народов Сибири, но атмосфера в них очень похожая.
Я периодически задумываюсь о том, что ваша привычка то и дело врубать режим «срал-ебал» должна от вас читателей и покупателей уводить. У вас у самих нет какой-то рефлексии на этот счет?
Иван: В информационном сопровождении книг мы не сильны, поднимать шум вокруг них и дискуссии инициировать как-то душа не лежит. Хотя некоторые умеют, конечно, устроить пляски с бубном на все село, иногда даже вокруг полной ерунды. Перед нами стоят главным образом практические вопросы: каких авторов привлечь, в какую аудиторию они попадают, как их материал оформить, как назвать, как продать. Обычно все, что мы можем сказать о нашей новой книге, — это аннотация к ней, которая пишется в десять предложений и по возможности сокращается до пяти.
Тебе не кажется, что пиздобольство может поддерживать на плаву все остальное?
Иван: Конечно, но для этого нужен определенный склад характера: тусовочность, общение с людьми, которые тебе не всегда приятны, но это не наш метод. Если мне человек не очень нравится, но может помочь с продвижением книжки, я все равно постараюсь с ним не связываться. Так-то мы много с кем дружим, но не ради выгоды. Мне кажется, что сейчас, чтобы делать что-то типа КРОТа или нашего издательства, нужно не столько дружить во все стороны, сколько размежевываться, иначе у тебя не будет достаточно четких ориентиров.
А в какой момент существования издательства вы поняли, что нужно больше хуйни?
Петр: Не так давно. Если делать какие-то выводы (хотя лучше, конечно, их не делать), то все это последствия той отрыжки шестилетней давности. С другой стороны, уже в самом начале на две более-менее внятные книги выпускалась одна абсолютно дикая: «Анархия и хаос» Иванца, «Сибирские тетради» Кропоткина», «Моццикони» Малербы. До сих пор не могу понять, как нормальному человеку может прийти в голову купить такое.
То есть в какой-то момент вы поняли, что нужно выпутываться из того, что наворотили, и вваливать явления уже совершенно из других вселенных?
Иван: Я давно понял, что перегибание палки — это не всегда минус, иногда это работает вполне положительно. На этом основывался фаланстеровский паблик ВК в лучшие его годы.
Петр: Сначала — да, но потом наш товарищ Евгений взялся за околоанархистскую тематику и навел в паблике какой-никакой порядок.
Иван: Ну да, а порядок привел к тому, к чему обычно и приводит: к топтанию на месте. Я хорошо помню время когда сбежал из твиттера вконтактик — кругом царство унылого так называемого смм: смайлики, ебучие хэштеги, «доброе утро», вся эта хуйня, а ты берешь и начинаешь постить Бибихина, Людвига Тика, «пошел на хуй», котиков, Летова и говно, а если кому чего не нравится — отписываемся. Правда, с тех пор Летов, увы, сам стал смайликом и хэштегом (точнее, не сам стал, а его таким сделали, конечно). Времена меняются. Но зато Людвиг Тик пока еще ничего вполне, держится.
Петр: Мне кажется, что большого роста аудитории это не дало. Настоящий рост был от спекуляций рутрекеровскими архивами: выкачиваешь пдфы хороших книжек, систематизируешь их, придумываешь обертку какую-то и постишь. А в качестве тяжелой артиллерии использовались наши личные архивы аудиолекций, мы много чего к тому времени успели записать во время учебы или собрать по знакомым. Все это стало планомерно заливаться и вываливаться в паблик — сейчас только самые ленивые школьники-троечники такого не делают, а в 2013-м никому и в голову это не приходило.
Разве не делали что-нибудь такое паблики типа «Филологической девы»?
Иван: Насколько я помню, нет. Во всяком случае мы никогда ничего не публиковали, если предварительно сами не прослушали весь курс, в том числе слушали лекции по максимально козявочным темам (для собственного удовольствия, разумеется, а не чтобы в паблик вывалить). Если я вам что-то советую послушать, значит послушал сам и мне понравилось, а если не понравилось, то зачем рекомендовать.

Расскажите о вашем новом издательстве Forthcoming Fire. Название «Грядущий огонь» какое-то не очень левацкое — понятно ведь, откуда оно взялось.
Иван: Верно, классовая борьба тут ни при чем, это группа была такая немецкая. Вообще мне близка идея о том, что когда все идет по пизде и грядущий огонь уже близок, нужно обращаться к надежным, проверенным вещам — к учению Маркса, «Откровению Иоанна Богослова», к античности, то есть к неким устоявшимся феноменам, структурированным и завершенным. Они обладают ценностью уже потому, что состоялись как некое цельное явление, приобрели определенные очертания согласно некой логике, которую можно понять. Меня всегда возмущало, что существуют целые пласты культуры с очень сложной внутренней игрой, в которую большинство людей не хотят вникать. Конечно, все что-то о них слышали, но так-то это ведь целые отдельные миры, а наши современники воспринимают их как нечто поверхностное, словно это такая же хуйня, какую они смотрят в кинотеатрах. Но это же огромные глыбы, и нужно годами работать с ними, вникать, узнавать детали, понимать расстановку сил и все глубже в них погружаться. Это ведь один из самых эффективных способов самому меняться и менять мир, в котором живешь. Моя одержимость текстами и феноменами прошлого — это не апелляция к каким-то сакральным ценностям, которым нужно безусловно следовать, это некая внутренняя работа с завершенными историческими мирами, которые могут дать тебе гораздо больше, чем современность. Современность не просто утекает, как вода через пальцы, она стала совершенно непрогнозируемой и нерационализируемой, и поэтому все, что с ней связано, начинает казаться пустой тратой времени.
Когда люди сегодня начинают обращаться к традиции, это часто выглядит довольно комично, потому что похоже на попытку вчитать собственную логику в далекие от нас явления. Не был ли модерн таким же жестом, когда люди пытались вложить свою логику в чуждую им культуру и сделать себя и то, что они делают, немного более интересным?
Иван: Возможно, я не думал об этом. Мне кажется, что в середине XX века все очень сильно поменялось, и сейчас процесс создания инструментов для понимания того, что происходило раньше, более-менее завершился. То есть все инструменты, которые могли быть для этого сделаны, уже уточнены максимально, и поэтому мы получаем толпы исследователей, решающих надуманные проблемы на надуманном материале (например, модные сейчас книжки про грибы, водоросли и тараканов и их жизнь, не менее сложную и значимую, чем человеческая). Сам аналитический аппарат словно бы некуда уже дальше улучшать, он вполне совершенный. То есть для того, чтобы понимать Ренессанс, барокко, античность и т.п., у нас все есть, не хватает только скрупулезной работы, которая по каким-то причинам, политическим, видимо, перебрасывается на изучение гендерных мелочей или еще какой-нибудь ерунды. В то же время есть люди типа нашего великого филолога-классика Андрея Валентиновича Лебедева, которые занимаются настоящей работой, пытаются заново разобрать и собрать недосягаемый для нас мир античности и рационально его объяснить. Позитивистский XIX век был эпохой великих иллюзий, а на смену ему вместе с очередным кризисом капитализма пришел модернизм, герои которого поняли, что вульгарный сциентизм — это полная хуйня. Грубо говоря, пришел Федор Сологуб и сказал: «Я творец, я буду творить свой мир, и мне абсолютно все равно, что тут у вас происходит». Конечно, ему, как и прочим, было не все равно — сотворенным тобою миром всю жизнь кормиться не выйдет, и уже в 1905 году Федор Иванович напишет на полном, как мне кажется, серьезе стихотворение, начинающееся так: «Буржуа с румяной харей, / Прочь с дороги, уходи! / Я — свободный пролетарий / С сердцем пламенным в груди». Все это мифотворчество вылилось в великие утопии, коммунизм и фашизм, а катастрофы XX века привели к такому великому разочарованию, что в итоге возникла та форма критики, которую уничижительно называют «постмодернистской», хотя ослу понятно, что это была совсем не глупая вещь: теперь уже герои послевоенной эпохи решили, что инструменты анализа нужно усовершенствовать настолько, чтобы больше никто нас не смог наебать.
Ты говоришь об американском и европейском постмодернизме?
Иван: Вообще эту вот форму континентальной критической мысли, о которой я говорю, американцы благодаря своей экономической гегемонии смогли под себя подмять и отчасти присвоить, и мы волей-неволей смотрим на нее через американские очки. Смешно сказать, если вбить в «гугл букс» фамилию Деррида, вылезет 1.200.000 результатов, это же уму непостижимо. Фредрик Джеймсон довольно ясно показал, что постмодернизм — это не книжки Деррида и не фильм «Матрица», это вполне конкретная экономическая логика, характерная для определенного исторического периода. Она влечет за собой определенные идеологические и культурные изменения и в то же время сама на них отзывается. Поэтому так смешно, когда культуру нашего времени описывают как бессодержательную игру и винят в ней Фуко и Деррида, разрушивших какие-то там вымышленные ценности.
Фуко, Деррида и иже с ними были авангардом своего времени, и они докрутили до предела аналитический аппарат, с помощью которого мы работаем с культурой, понимаем прошлое и вписываем его в настоящее. Радикальность их мысли, постоянно саморадикализировавшейся (это было естественное ее состояние), не могла, конечно, не завести местами в тупик — поэтому неудивительно, что многим поздние тексты Делеза кажутся такими чудовищными и отлично подходят для спекуляций в области современного искусства, а что из них извлекают разные модные молодые философы современные, я понять, к сожалению, не в состоянии. Зато Фуко и Бурдье по-прежнему остаются для многих эталоном критической мысли: они ставили фундаментальные вопросы, искали на них ответы и тут же задавались вопросами снова. Они историзировали все что можно не для того, чтобы получать гранты или эпатировать кого-то, а для того, чтобы понять, как что устроено — и многое действительно прояснили. Поэтому когда нынешние постмодернистофобы игнорируют такого рода авторов и отказываются от их достижений, это ведет к провинциальности: если ты меряешь другие эпохи по собственной мерке, то никогда не сможешь высунуть голову из склизкого настоящего. Нынешний мир живет отказом от постмодерна, от его главных критических достижений, и в первую очередь от радикальной историзации и рационализации, которые противоречат нашему повседневному опыту, доставляя массу дискомфорта, но зато помогают понять, как что работает на самом деле.
Здесь я с тобой не согласен. Мне представляется, что мир сегодня очень сильно рационализирован. Рацио исключает многие базовые вещи вроде интуиции и других необъяснимых явлений, оно пытается объяснить их через нейробиологию и другие грубые модели.
Иван: Не вижу здесь противоречия: рационализируя частные феномены нашей жизни, как это делают популяризаторы естественных наук, легко упустить из виду более широкую историческую перспективу. Это как раз и будет отказ от настоящей рационализации, потому что Мишеля Фуко всегда занимали крупные феномены и то, как они работают. Геродота с Платоном это тоже волновало, и христианских богословов, и Маркса с Гегелем — а наши современники ко всему этому словно бы поостыли.
То есть мы увязли в микроисториях?
Иван: Нам постоянно подсовывают локальные истории и выдают их за панацею: сейчас у всех появится интернет и все станут умными, счастливыми и демократичными, не вышло — появляется волшебная сила социальных сетей, но и от них счастье почему-то не наступает — скорее наоборот, люди разучиваются нормально воспринимать информацию, зато у каждого второго уже какое-нибудь психическое расстройство. Потом будут биткоины, потом Маск придумает еще какую-нибудь ерунду, и выхода из этого болота как не было, так и не будет. Неужели Фуко поверил бы в волшебную силу сутулого фейсбука? Впрочем, он верил и в май 1968-го, и в Исламскую революцию — nobody's perfect. Современность выставляет нас идиотами далеко не первый год, конечно.
По-твоему выходит, что углубление в традицию — рационалистическая практика. Но ведь традиции рациональное восприятие мира чуждо — где ты, например, в русской или европейской сказке найдешь рациональное восприятие мира?
Иван: Типичная ошибка: мы не можем судить об этом со своей колокольни, а в рамках того социума, в котором циркулируют сказки или мифы, такое восприятие мира будет абсолютно рациональным. Об этом говорит современная фольклористика.
Мне кажется, современная фольклористика уклоняется от ответов на такие вопросы, предлагая взамен надуманные, очень искусственные конструкции.
Иван: Нет, она вполне точно все описывает на самом деле. Как-то раз я делал интервью с фольклористом Андреем Морозом: хотел выяснить, как функционировали в традиционных обществах чудеса, какую роль они там играли, как концептуализировались и т.д. К большому моему удивлению Андрей Борисович начал с того, что традиционная культура чудес не знает, их там просто не может быть. Я был совершенно изумлен таким ответом, а он объяснил далее, что в фольклорной традиции есть боги, герои, демоны, вампиры, кикиморы, но это вещи, которые абсолютно гетерогенны тому миру, в котором существует носитель традиции. А чудо — это то, что выбивается из привычных рамок существования, как в христианстве воскресение Христа. Никто не воскресал, а Христос вдруг воскрес (конечно, не совсем так, кое-кто еще порой воскресал). А в фольклоре такое невозможно, потому что фольклорная традиция устроена совершенно по-другому: там демоны существуют наравне с человеком, он их просто не видит, и также существуют боги, любое волшебство, колдуны, сосед, который наводит порчу, — это все явления одного порядка. Поэтому когда мы говорим, что традиция полна иррационального, мы заблуждаемся. На самом деле она абсолютно рациональна, просто у нее другая логика. Поэтому в современной Москве со всеми ее банками и Макдональдсами чудес навалом, а в мире дремучего крестьянина XIV века, вокруг которого все время летали боги, демоны, творилось волшебство и все превращались во всех, чудес не существовало в принципе. А нам даже вещий сон кажется чем-то чудесным.
Поэтому когда Дугин говорит, что рационалисты все портят — это, конечно, полная хуйня идеологическая. Рационализм не обязательно должен быть идиотским, как позитивизм, он гораздо сложнее и тоньше. Он допускает, а иногда и требует погружения в традицию и разных видов работы с иррациональным — в конце концов, без иррационального не было бы значительной части мирового искусства, например, стихов старшего лейтенанта Пидоренко В.П., трезвомыслящего человека, чуждого каких-либо предрассудков и суеверий.


Петр: В четырнадцать лет я понятия не имел, что словосочетание Forthcoming Fire связано с какой-то библейской образностью, это уже позднее стало ясно. Для меня это был скорее символ нарастающей с каждым днем тревоги по поводу того мира, который исчезает и никогда больше не появится. Но речь не о той ностальгии, которой нужно захлебываться на дарк-фолк концертах и т.п., — меня занимали и занимают гораздо более простые вещи. Например, очень показательна история последнего фильма Ларисы Шепитько «Прощание с Матерой», который она не успела довести до конца (погибла во время съемок), но который, судя по сценарию, был посвящен тому, как у обычных, незаметных, доживающих свой век людей отняли родину и затопили ее у них на глазах. Фильм этот потом доснял муж Шепитько, Элем Климов, несколько сместив акценты и сделав из «Прощания с Матерой» просто «Прощание»: он попрощался так с самым близким в его жизни человеком и при этом идеально передал само ощущение хтонического ужаса, который испытываешь от очередной потери — кого-то близкого или просто знакомого, или места, к которому привык с самого детства. Петр Владимирович Рябов как-то раз рассказывал мне о своем нефункциональном отношении к вещам, которые он воспринимает как неотъемлемую часть жизни, а не временное барахло: «Я помню, как в детстве мне родители говорили: «Петя, иди выбрось башмаки», — я шел, закапывал, запоминал, чтобы потом вернуться, откопать и над ними рыдать, созерцать их. Как я могу выбросить эти башмаки только потому, что они продырявились и стали нефункциональны, если я их носил пять лет и в них столько всего происходило в моей жизни». Мне понятен этот опыт: например, хорошо помню, как однажды, когда я еще учился в школе, мне пришло в голову попрощаться с нашей кошкой. Она была рядом, спала на кровати, а я сел с ней рядом и вслух проговорил ей, как мне жаль, что рано или поздно ее не станет, насколько сильно я к ней привязан, как я ее люблю и тому подобные вещи, все как у людей. А через несколько недель она умерла, хотя она была нестарая и вроде бы не болела. И я рад, что успел это сделать.
У каждого своя Матера. Дело ведь не только в том, что касается непосредственно меня, — почти к каждой нашей книге и ее автору я, взявшись за издание, относился так же, как к чему-то принципиально важному. И пока есть какие-то важные вещи, которые преследуют меня, о которых не получается забыть, я буду ими заниматься, пускай хотя бы в формате книжек, которые чем дальше, тем меньше кому-то нужны. Однажды у нас с уже упоминавшимся выше Александром Терентьевичем Ивановым состоялся долгий разговор, в конце которого он спросил, как я отношусь к очередному митингу в поддержку Навального, проходившему в это время на соседней улице. Я честно ответил, что мне мало дела до всех этих успешных хорошо одетых молодых людей, зато из моей головы не выходят совершенно другие вещи: например, как во время студенческой фольклорной экспедиции я десять лет назад брал в заброшенной калужской деревне интервью у старухи, которая, сидя в куче грязного постельного белья, рассказывала, как она любит Владимира Путина, поскольку с его приходом к власти девятого мая опять начали проводить парад Победы — а я по сей день не могу забыть запаха ее белья. Александр Терентьевич почему-то назвал все это «цинизмом», и с тех пор мы с ним не разговаривали, но тот запах никуда не делся. И если бы я, а не Ваня, был условной Ириной Дмитриевной Прохоровой, я бы, конечно, поднял бесконечные архивы фольклорных экспедиций, хранящихся на кафедрах отечественных филфаков, и издавал бы все это до конца жизни. Поэтому для меня так важно знакомство с Мишей Мельниченко, Сергеем Моховым, Дмитрием Опариным, Петром Рябовым, Евгением Кучиновым, Марией Нестеренко, Марией Викторовной Михайловой, Евгением Коганом и многими другими людьми, которые занимаются похожими вещами.
Так что да, конечно, это история про апокалипсис. Но я думаю в первую очередь о самых близких вещах вроде деревни, где вырос, о микромире нашей семьи. Мне хорошо знакомо ощущение, что новый мир наебывает тебя снова, снова и снова, и поэтому самым ценным становится то, что возвращает тебя в прошлое — не только твое собственное, но и твоей семьи, твоих знакомых или, в конце концов, даже незнакомых. Традиция — это что-то вроде привязанности к месту, привязанности, от которой никуда не денешься. А наши книжки — типа ниток, которые связывают настоящее с разным прошлым.
Иван: На самом деле не так важно, бывал ли ты в том конкретном месте или нет.
Петр: Конечно, наша коллективная любовь к Сибири тоже из этой серии.
Иван: Регрессия как принцип повседневного существования: в мыслях я постоянно возвращаюсь к первым годам жизни, проведенным в доме бабушки, и часто вспоминаю книги, прочитанные в очень раннем возрасте. Думаю, это примерно одно и то же, словно ты живешь в обработанном памятью прошлом. Это особенное состояние, и его способны вызывать только книги, ну и музыка отчасти тоже.
Петр: Уже заходила речь о том, что в последнее время мы словно не чувствуем никаких границ, когда утверждаем наш издательский план, если это можно так назвать. В моем случае, например, издание книжек все больше принимает формат разговора с самим собой, а не с читателем. Попробую пояснить на примере наших новых книжек, которые только что вышли или вот-вот выйдут. Не так давно мы придумали новую серию «Плоды земли» и назвали ее, понятно, в честь романа Кнута Гамсуна (хотя это и не лучшее его произведение, лучшее — трилогия об Августе, но заголовок для серии идеально подошел). Кроме этого многозначительного названия потенциальный читатель, взявший в руки книгу, увидит логотип, для которого мы выбрали изображение голубого бобра — важный символ из «Кащеевой цепи» Михаила Пришвина. Когда маленький Пришвин пришел прощаться с умирающим отцом, отец попросил лист бумаги, карандаши и нарисовал под елками голубых бобров. На следующий день он скончался, но когда скорбящие родственники пытались пожалеть мальчика и назвали его сиротой, тот ответил, что он не один — у него есть голубые бобры. (К слову, книга самого Пришвина тоже готовится к выходу в этой серии.) Мы договорились с малоизвестным сибирским дарквейв- (а в недавнем прошлом блэк-метал) коллективом Isa, музыка которого похожа одновременно на Desiderii Marginis и Lycia, что они напишут саундтрек для этой серии — песню по мотивам каждой книги. И, самое главное, мы уделили особое внимание картинкам, которые использовали и будем использовать для обложек книг этой серии. Занимаясь сибирскими писателями начала ХХ века, мы узнали, что с 1979 по 1993 год в городе Иркутске существовало издательство «Литературные памятники Сибири», сотрудники которого проделали невероятную работу по сбору и публикации текстов сибирских писателей, по большей части совершенно неизвестных. Много ли кто слышал про Георгия Гребенщикова, Исаака Гольдберга, Арсения Жилякова, Степана Исакова? Чуть более известен Антон Сорокин, собрание сочинений которого мы готовим. Некоторые произведения этих авторов мы решили еще раз переиздать, а в качестве картинок для обложек книг серии взяли иллюстрации с форзацев разных томов «Литературных памятников Сибири», хотя они не имеют никакого отношения к содержанию книг. Просто такая дань уважения людям, которые много времени и сил отдали не литературным суперзвездам, а своим местным писателям — какие есть. Нам такая позиция близка.
В этой же серии уже вышла книжка, посвященная памяти литинститутского преподавателя Станислава Бемовича Джимбинова, — сборник, в который вошел «Медведь», один из любимых им текстов Фолкнера, а также статьи об этой повести. Самое главное в книге — эпиграф с цитатой из лекции Станислава Бемовича, который по-своему каждый год пытался рассказать не слушающим его студентам о голубых бобрах.
И еще о картинках. Когда мы делали книгу «Предел скорби» Вацлава Серошевского, решили напечатать на каждом развороте книги черно-белую иллюстрацию — горизонтальную полосу леса примерно в ⅕ страницы. Художница Евгения Ставицкая, заведующая оформлением книг Common Place, высказала опасение, что читатели от такого зрелища под конец книги захотят закопать издателей в том же лесу, поэтому неплохо бы варьировать картинки от страницы к странице. Я был против, потому что в оформлении использовались снимки, сделанные мной на экшн-камеру, когда я сплавлялся по очередной карельской речке (прелесть этих речек как раз в том, что пейзаж во время сплава может не меняться несколько дней), и потому, что там, где я рос, тоже ничего не менялось: каждый день я видел из окна одни и те же деревья, а когда выходил в поле — одну и ту же линию оврага. Значит, так и надо.